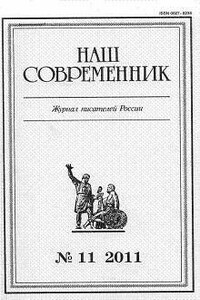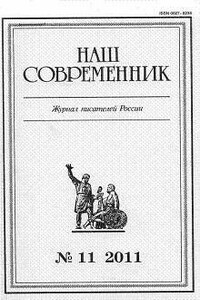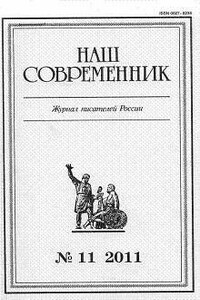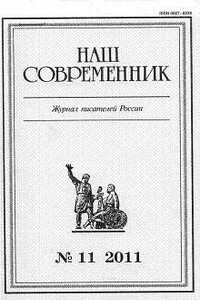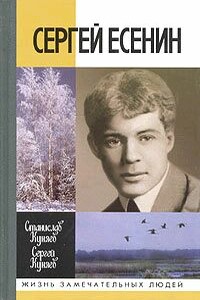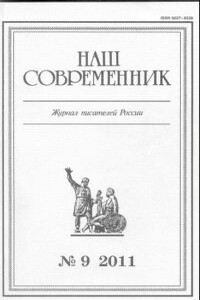«Ты, жгучий отпрыск Аввакума...» (глава 27) | страница 16
Так как же всё-таки, если следить за мыслью Клюева в "Плаче", принял смерть Есенин? Как Михайло Тверской? Как Василько Ростовский? Или "молодой детинушка себя сразил", отравившись миазмами города, куда "к собрату берёзка пришла", почитая город собратом, а в ответ:
Клюев зашифровал свою догадку так, что лишь не скоро и лишь знающему можно на неё набрести… И сам оставил для себя вопрос, на который у него не было ответа.
Отойдя от счёта с постылой современностью, сжирающей самого Клюева и сжившей с белого света его собрата, — он снова возвращается к причитанию по образцу того, что выводила Устинья в мельниковском романе над покойной Настасьюшкой от лица матери:
Но лебедь белая у Клюева становится свидетельницей и участницей поразительного действа.
И отвечает лебедь, как в том же граде, "железом крытом", в который пришёл некогда берёзкой "белый свет-Серёжа", он же "молодой детинушка" — "кидал себе кровь поджильную, проливал её на дубовый пол"… В старое причитание вторгается кровавое "сегодня" — кровь на полу — из статей лихих газетчиков, жаждущих "покраше" расписать происшедшее… Но далее:
Если вспомнить "серых нетопырей", что "мешали спать и жить" поэту из некролога Николая Тихонова, то, выходит, что "детинушка себя сразил", да не сам себе петлю на шею накинул… "Птицы нечистые" ассоциативно отсылают и к Тихонову, и к Лавренёву, но сами они — не из древнего ли "Воронограя", отреченной гадательной книги по птичьему полёту, из тех книг, что не признавала Русская Православная Церковь, а Клюев эту литературу хорошо знал… Мифологические существа, исполненные зла, пирующие на чужой крови — не те ли, кого встретил Клюев в "Англетере", и кто уже начал пробавляться в печати мерзким словечком "есенинщина" — прямым производным от князевской "клюевщины"? Древние мифы и живая, кровавая современность сливаются воедино.