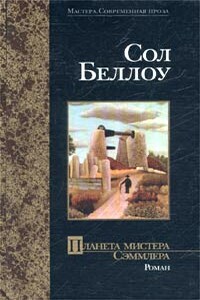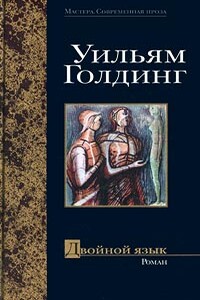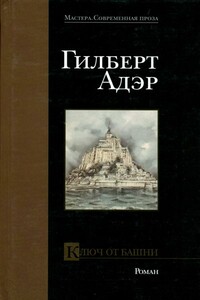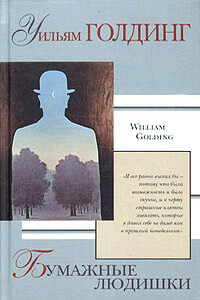Ирреволюция | страница 69
Дед Сандрины был лесорубом здесь же, неподалеку от Фремона. У него была лачуга, где родилась дюжина детей. Восемь выжили; остальные умерли от родимчика или поноса, потому что в те времена, сказал мне (не без гордости) Марко, отец Сандрины, дровосеки к врачам не обращались. Когда подходили роды, звали старую Агату, которая знала толк в травах и умела принять ребенка в свой большой передник, а если ребенка не хотели, могла и «отправить» его. А потом старая Агата померла, прожив лет девяносто на козьем молоке да на супе, которым ее угощали зимой в благодарность за отвары из трав и акушерские услуги. А потом в деревне построили большой завод, и все изменилось. Люди пошли на завод; они неплохо зарабатывают; на кухне, где я ужинал, стоял большой холодильник, стиральная машина, телевизор, и на полу, под столом, где под ногами у нас возились ребятишки и собака, было полно игрушек.
Теперь все не так, как прежде, и Марко грустит о былых временах, о лесной лачуге, о работе на вольном воздухе вместе с отцом и братьями. На заводе заработки хорошие, но чахнешь, как в городе. Да и былой свободы нет уже.
И вот по ночам, если не слишком клонит ко сну и не очень набрякли руки от работы, братья еще ходят браконьерствовать с силками «на кролика», — как в те времена, когда были дровосеками; Марко рассказывает мне об охоте «на кролика»; Марко явно любит рассказывать; он не говорит — говорить он не умеет, он именно рассказывает; в сотый раз, наверно, он рассказывает, как охотился вместе с братом Бальтазаром на кролика и как полевой сторож с бранью гнался за ними, он рассказывает это, как уже рассказывал сотни раз, теми же словами, словами, воскрешающими ночь, словами, животворную магию которых я лишь смутно угадываю, словами, благодаря которым рабочий Марко и рабочий Бальтазар сами преображаются, становятся частью легенды, мифа о земле, земле — супруге дровосека, изнасилованной, а потом убитой двадцать лет назад камнем, кирпичом, бетоном, заводом.
Они браконьерствуют не ради дичи, может, даже не ради удовольствия. Бальтазар и Марко уходят ночью в лес, потому что лес, заросли, задыхающийся бег во мраке, крики полевого сторожа за спиной — это их вольное детство; это последняя защита от телевизора, стиральной машины и заводского табеля. Силки — это свобода. Браконьерство, штрафы, жена, которая не спит, прислушиваясь вместе с детьми к каждому шороху в ожидании мужа, и даже дни, проведенные в жандармерии, если попадешься, — это последние крохи чудесного прошлого, уничтоженного высокими кирпичными стенами завода, прошлого, которое они иногда пытаются воскресить. Это последняя связь с отцом-дровосеком. Браконьерство, ночь, мрак, бег сквозь секущие лицо ветки, и силки, которые прячут в ныне уже пустой риге, — это последняя связь с прошлым, превратившимся в миф; с прошлым, о котором мне рассказывают смеясь, но в этом смехе прячется что-то серьезное: это прославление прошлого, прославление природы, предков; прославление земли, темной ночи. Потом племя отходит ко сну. Я уезжаю; завтра для них, как и для меня, наступит настоящее: клан распадется надолго, вплоть до следующей охоты на кролика или до следующей партии в белот. А потом, несколько лет спустя, со всем этим будет покончено навсегда; все забудется! Дети играют под столом и не слушают.