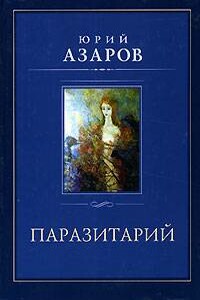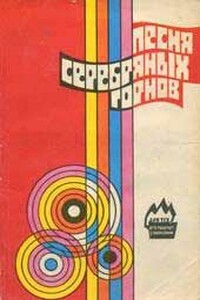Подозреваемый | страница 20
Долинин был тем, кого называют новым русским. У него была мощная "крыша", две "Вольвы", три фабрики и огромное тепличное хозяйство с питомником.
Он был богатым человеком, и я надеялся, что в тех условиях, в каких оказался, я должен раскрыться.
В чем это могло выразиться, я толком не знал.
Выставка
Я человек крайностей. Впрочем, как большинство из нас в России. Если кругом пальба и воровство — норма, и безнравственно — не воровать и даже не подворовывать, если у всех чешутся руки: огреть бы! Осадить! Ошкурить! Если охлократический мотив повсюду: и в шоу, и в шопе, и…, если толпотворение набирает центробежную энергетику и все виды грабежа, разбоя, мошенничества принимают форму закона или депутатской болтовни, то наступает иная крайность, имя которой — беспредел.
Ленинско-сталинская формула "диктатура опирается на насилие, а не на право и закон" в сравнении с нынешним беспределом — детский лепет или высшая форма гуманизма, где человек (в контексте всего мирового бесовства) звучит гордо!
Я и хотел средствами живописи показать всю мучительную гибельность беспредела, когда убивают грудных детей, когда подростки выбрасывают с двенадцатых этажей своих бабушек и дедушек, когда бомжи живут хуже собак, а шахтеры, учителя, врачи хуже бомжей. Я набросал около 20 циклов самых современных сюжетов, смыкающихся с библейскими, откуда и такие афористичные названия и циклы "Россия с протянутой рукой", "Радость мученичества", "Отчаяние", "Торжество света". Всего получилось картин 300.
Мой Долинин был в восторге и зафрахтовал огромный выставочный зал в центре столицы. Надо сказать, он крепко выложился. Погонный метр рамного полотна — 30–40 долларов. Страшно сосчитать! А сколько красок, холстов, подрамников, жидкостей!
Я в жизни так не работал. Вставал в три часа ночи, а ложился в двенадцать, даже в те часы, когда я спал, мне снились краски, цветовые оттенки, сюжеты, композиции.
Если что-то не получалось, я отставлял холст и начинал новый. Порой я, как сумасшедший, вертелся вокруг картины с толстенной малярной кистью, что есть мочи ударяя ею то в одном, то в другом месте холста, затем я растворялся в причудливых цветовых наплывах, от которых дух перехватывало, заклеивал понравившиеся места кусками картона и снова орудовал кистью, только уже чуть поменьше этой. Я был убежден: мои руки, моя кисть и мои краски так же гениальны, как и мои сердце и душа! И тут я откладывал заготовки, теперь для меня наступал совершенно новый невообразимый этап творчества — художественный анализ, начиналось как бы вычленение основных компонентов, из которых можно создавать тот или иной рисунок. То есть я фактически готовил для себя своего рода апоплексический грунт, где уже обозначилась моя эвристическая суть, осталось только дорисовать и раскрасить.