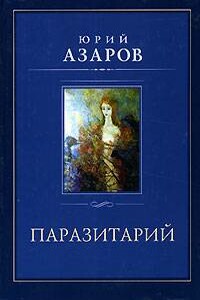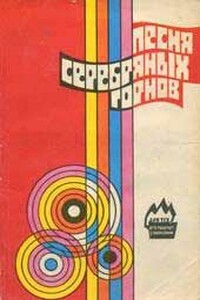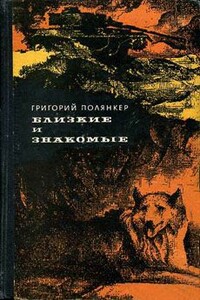Подозреваемый | страница 17
Отец пытался возразить, но мать хватала кочергу или скалку и орала что есть мочи:
— Убью!
Мой отец был художником. Точнее, неудачником. Он рано спился. Родители ненавидели друг друга. И теперь я знаю, почему мы с Жанной воспроизвели модель вражды моих родителей. Отец в глубине души романтик, в нем светлячок едва теплится (не пригасить бы его — он только об этом и думал!), а мать — огнемет, бурелом, точило, Простакова: "С утра до вечера бранюсь — на том и дом держится!" Она, клещ, с шести до двенадцати в труде: шьет, убирает, копает, моет, штопает, стирает, кому-то оказывает услуги, торгует, стоит в очереди — и ненавидит, когда отец вертит в руках кисть, делает вид будто работает: "Господи, когда я от тебя избавлюсь!" Отец спал до десяти, а меня она стаскивала с кровати в семь: "Читай! Учи уроки! Делай что-нибудь".
— Не мучай ребенка! — иногда срывался отец.
— Заткнись, — кричала мать. — Я не хочу, чтобы он вырос таким байбаком, как ты!
Когда мать уходила, отец рисовал со мной. Мы искали лунный свет, цвет капустного листа, и свет от абажура с салатным колпаком Как отец радовался, когда у меня получалось лучше, чем у него.
— В живописи главное, если хочешь знать, даже не рисунок, не линия, не цвет и свет, а сердце и душа!!!
— Как это?
— А вот сделать так, чтобы твоя настольная лампа засветилась, чтобы она обдала своим нежным цветом скатерть и посуду, спинку стула и подоконник, стенку и плечо человека…
— Сейчас! Я знаю, как это сделать! — кричал я и бросался к краскам. — Только не мешать! Нет, не смотри!
И тут во мне вспыхивал тот божественный огонь, о котором знал мой отец, и этот огонь испепелял меня, и в этом огненном порыве я находил нужные тона, блики, оттенки. И тогда отец почти шепотом произносил:
— Стоп! Дальше нельзя. Можешь испортить.
Я знал, что он будет говорить о том, что если божественное уже обнаружилось, то его можно легко потревожить, испортить, поэтому пусть лучше будет чуть-чуть незаконченное, но зато не убито БОЖЕСТВЕННОЕ!!!
Бедный мой папочка, он знал что-то такое, чего не знал никто! Он сумел вдохнуть свою тайну в мою душу. Вдохнуть, но не раскрыть. Не успел. Когда мне было двенадцать лет, он повесился на веранде, оставив мне крохотную записку: "Витек, береги свой дар. Он есть у тебя. Прости своего отца…"
Мать отняла у меня это прощальное письмо, изорвала в клочья, за что я на всю жизнь возненавидел ее.
Когда я закончил среднюю школу, мать требовала, чтобы я пошел либо в торговый, либо в экономический: "Все туда идут".