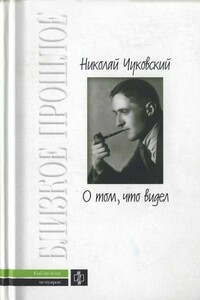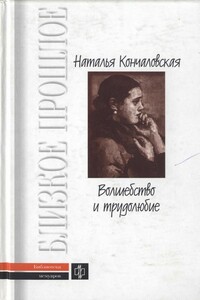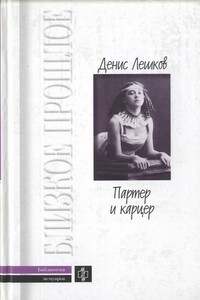Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном | страница 96
За Дамбергом последовал еще один ученик, которому я должен был преподать философию и который, таким образом, помог мне стать сносным знатоком Канта и Лейбница.
То был младший брат той самой Ренаты Фельдман, которая так много значила в моей жизни до отъезда в Россию.
Я продолжал постоянно бывать в доме Фельдманов и теперь; чуть не каждый вечер, поудобнее устроившись в вольтеровском кресле и куря бесконечные сигареты, я рассказывал сказки Ренате, ее родителям, ее сестре, жениху сестры и троим фельдмановским сыновьям. Легенды я сочинял длинные, занимавшие иногда несколько дней. Слушатели мои не могли догадаться, просто ли я пересказываю древние саги или перелицовываю их на свой лад, непременно, в разных обличьях, обыгрывая историю нашей с Ренатой любви.
Фельдманы были прекрасной семьей. Старшая сестра Ренаты считалась самой красивой девушкой в Митаве, а Эрик, старший брат, был образцом мужской красоты: высок, широкоплеч, с почти классически правильными чертами лица, белокурой шевелюрой и серыми глазами, он был великолепен; к тому же у него был спокойный, низкий, но богатый модуляциями голос большого оратора. Только мой философический ученик Герберт был гадким утенком в этом прелестном пруду: неуклюжий недотепа приземистого вида. Зато он был прилежен и аккуратен.
Мое русское путешествие укрепило меня во мнении, что Георге великий поэт. Поэтому стихи мои продолжали «георгичать», не становясь от этого лучше. И хотя я был, в общем, самый нормальный парень, в стихах я принимал позу невыносимо патетическую, прямо-таки лез изо всех сил на котурны. А в любовных виршах своих бывал сентиментален — настолько приторно, что это било в нос даже девушкам, которым они были посвящены.
Так продолжалось до тех пор, пока ангел-хранитель в антикварной лавке Лёвенштайна не послал мне в руки два потертых кожаных томика с совершенно другими стихами.
Сначала я прочел тоненький том — «Музарион», а после и второй, потолще — «Новый Амадис». После этого какое- то время я бредил Виландом; читал все, что только мог достать, — «Оберона», «Комические рассказы», «Гандалина», «Грации», но также и его прозу: «Дона Сильвио из Розальвы», «Агатона» и прежде всего «Абдеритов».
И постепенно я выздоровел.
Этот простой и прозрачный поэтический язык, ясный настрой, грациозная рассудительность, тайно влюбленная в то же время во всякую магию, волшебно кондовая невозмутимость, очаровательная недоговоренность и обескураживающая чувственность, далекая от всякого сентиментализма, — все это вернуло меня к себе. Больше года я не мог читать ничего, кроме Виланда и Жан Поля, Стерна, Сервантеса и снова Виланда. Противоядие было найдено.