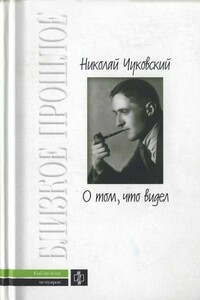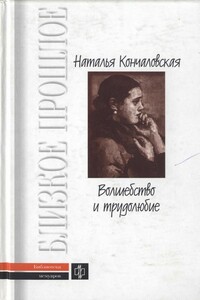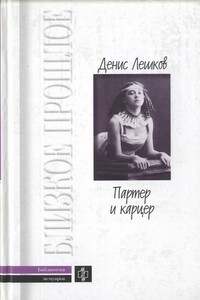Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном | страница 94
В мае 1906 года, когда петербургские острова покрылись цветами, настала пора мне уезжать. Сердечно распрощавшись с Ремизовыми и погрузив в пролетку дополнительный, сильно потертый чемодан с книгами, подаренными мне поэтами, я отправился на Балтийский вокзал. И уже почти добравшись до него, вынужден был повернуть назад — потому что забыл свой паспорт.
В России тогда у каждого должен был быть паспорт. Его сдавали портье, останавливаясь в гостинице ли, приватно ли, неважно, и хозяин отмечал его в полиции. Вот у портье дома, где жили Ремизовы, я и забыл свой паспорт. Был ли то знак?
Вероятно.
Несмотря на эту задержку, я успел на свой поезд. Мальчиком приехал я в Петербург, а уезжал с ощущением, будто прошел за восемь недель два семестра университета. Я был принужден подтянуть свой плохой русский, так как общался почти исключительно на русском языке; только в самом начале некоторые из друзей говорили со мной по-немецки, которым тогда владели почти все. Под конец все без исключения разговаривали со мной только по-русски.
Я открыл новый поэтический мир. Очень ли он отличался от мюнхенского поэтического мира? Да. Он был намного тяжелее и глубже, но и намного легче, воздушнее — он скользил подобно небесному кораблю над облаками. Русская тяжесть встает из более темных душевных глубин, русская легкость более размашиста и вдохновенна. Постиг ли я это на примере Любови Блок? Было ли это материнское начало в русской женщине? Но ведь она оставалась женщиной, великой женщиной в полном смысле этого слова. И такой же милой и жизнелюбивой, как Татьяна Гиппиус, Незабвенная.
А если русские все же сделали настоящую революцию, то почему они вдруг от нее решительно отказались? Только потому, что она не удалась? Тут тоже было много непонятного для меня.
Но стихи! До этого я писал стихи, теперь я ими жил. Стихи, как выяснилось, вовсе не состояли из красивых слов, слова должны быть настолько само собой разумеющимися, сильными и необходимыми, что их действенность можно измерять термометром. Все, что я писал раньше, казалось мне теперь шарманкой. Уши мои слышали по-новому.
Глаза мои видели по-новому. Нет, не новый русский мир. Конечно, он был нов для меня, но за ним я стал прозревать тот взлет души, при котором огненный столп духа зажигается от любви.
Вовсе не в аполлоническом настроении, скорее опьяненный новыми красками бытия, новым живым знанием, я возвращался той весенней ночью домой.
Не для того ли я до этого ездил в Германию, чтобы открыть Россию? И что же, собственно, я там открыл? А в том, что открытие состоялось, я не сомневался.