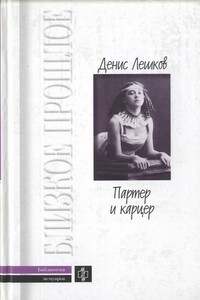Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном | страница 2
Автобиографическое сочинение Гюнтера интересно во многих отношениях. Оно построено как роман — как классический немецкий «роман воспитания». Напрашивающийся ориентир — «Волшебная гора» Томаса Манна, где героя тоже зовут Гансом (Иоганнесом), а действие точно так же завершается в 1914 году — с началом Первой мировой войны. Подобное повествование всегда вбирает в себя много примет времени. Как свидетельства они драгоценны. Мы и о теперешнем своем времени много узнаем, если вникнем, благодаря Гюнтеру, в то, как строились, например, русско-немецкие отношения на территории нынешней Латвии сто лет назад. И торопливый, беглый, чем-то взвинченный, куда-то — в бездны, то ли лазурные, то ли мрачные — летящий, но в скороговорке своей часто остающийся профанирующим и поверхностным культурный окрас эпохи предстанет тут во всей своей яви (как и во всех своих снах). Книге Гюнтера в этом отношении обеспечена бездонная, эховидная перекличка со многими литературными памятниками эпохи — от «Жизни Клима Самгина» Горького и «Хождения по мукам» Алексея Толстого до мемуаров Белого, Степуна, Пяста, Чулкова, Ходасевича, Лившица, Маковского — и так далее и так далее без конца.
Палитра Гюнтера необыкновенно широка. Трудно назвать знаменитость «модерна», с которой бы он ни пересекался. Но мемуары его подкупают не только и, может быть, не столько этим. В них постоянно ощущается главное, что обеспечивает долговечность эссеистики, в том числе мемуарной, — стержень вкуса. Вкуса на все подлинное, значительное, новое, небывалое. Интуиция Гюнтера поражает. Как мог девятнадцатилетний юноша, слагающий беспомощные стишки, так безошибочно выделить из двух десятков своих современников, русских символистов, бесспорных гениев (да еще тех к тому же, чей гений только-только забрезжил) — Блока и Белого. Или не слишком твердо зная пока русский язык (это после российской гимназии-то — штрих!), распознать в Хлебникове величайшего речетворца века. Или после первых же постановок Мейерхольда желать учиться режиссерскому мастерству только у него. Интуиция и прямо-таки русским нахрапом, то есть беззаветной любовью, добытая эрудиция — вот что, видимо, сделало юного Гюнтера столь легко вхожим во все самые солидные издательства и журналы, во все самые прославленные театры и литературные салоны своего времени. И даже в покои великого князя Константина Романова, известного поэта К. Р.
Интуиция, эрудиция и, конечно, известное обаяние («развязность» — припечатывал «юнкера», ревнуя к нему не то Блока, не то Блокову жену, сердитый Протей Андрей Белый). Кстати, в переписке и дневниковых отзывах о Гюнтере его современников мы встретим всякое. Ремизов, у которого Гюнтер долгое время жил и столовался, в конце концов признал его пустым «хвастунишкой» и от сердца отринул. Охладел к нему со временем и Блок. А Мейерхольд и вовсе щелкнул по носу тем, что не признал годным для своего дела. Многие (и — судя даже по мемуарам — справедливо!) именно болтливости Гюнтера приписывали наделавший шума в свое время пародийно-гротескный конфликт между Волошиным и Гумилевым, кончившийся жалкой дуэлью, унизившей обоих. «Лучший друг» Маковский годы спустя, в эмиграции, только через Вячеслава Иванова начал разыскивать адрес Гюнтера — и то лишь потому, что понадобилась справка для собственных воспоминаний. Не так уж, стало быть, были они близки, как это мнилось их автору.