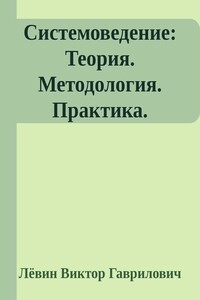Фуко | страница 76
Вот почему немыслимое находится не снаружи мысли, а в самой ее сердцевине, как невозможность мыслить, которая удваивает или углубляет внешнее[5]. То, что у мысли есть нечто внутреннее, немыслимое, говорилось уже в классическую эпоху, когда она обращалась бесконечному, к различным порядкам бесконечного. А начиная с XIX века наличные измерения конечного стали как бы стягивать внешнее в складки, сокращая его, образуя некую "глубину", своего рода "втянутую в себя толщину", то внутреннее жизни, труда и языка, в котором размещается человек, хотя бы лишь для того, чтобы спать, но это внутреннее еще и само размещается в бодрствующем человеке "как живом существе, индивидууме за работой или говорящем субъекте"[6]. То ли складка бесконечного, то ли изгибы конечности, но все они придают внешнему кривизну и конституируют внутреннее. Еще в "Рождении клиники" было продемонстрировано, как клиника работала с телом как с внешней поверхностью и как патологическая анатомия вводила туда впоследствии глубокую складчатость, которая, не воскрешая прежней интериорности, скорее, образовывала новое внутреннее этого внешнего[7]. Внутреннее как работа внешнего: похоже, что во всех произведениях Фуко преследовала тема внутреннего, которое является всего лишь складкой внешнего в такой же мере, в какой, например, корабль был бы складкой моря. По поводу безумца, брошенного на судно в эпоху Возрождения, Фуко писал: "Он помещен во внутреннее внешнего, и наоборот…. он узник посреди самой свободной среды, самой открытой из дорог, крепко прикованный к бесконечному перекрестку, он является прежде всего Путником, то есть пленником своего пути"[8]. А мысль, собственно, и не имеет иного бытия, ее бытие и есть этот безумец. "Замкнуть внешнее, то есть сделать из него интериорность ожидания или исключения", — писал Бланшо по поводу Фуко[9].
И все-таки темой, неотступно преследовавшей Фуко, была тема двойника.
(В оригинальном тексте слова двойник («double») и подкладка («doublure») — слова одного корня.)
Однако двойник рассматривался не как проекция внутреннего, а, напротив, как интериоризация внешнего. Это не раздвоение Единого, а удвоение Другого. Это не воспроизводство Тождественного, а повторение Отличного. Это не эманация Я, а придание имманентности вечно иному или вечному Не-Я. Двойником в удвоении никогда не бывает другой, это всегда Я, переживающий себя как двойник другого: я не встречаюсь с собой снаружи, я нахожу другого в себе ("речь идет о том, чтобы показать, как Иное, Далекое, есть в то же время и Близкое, Тождест")