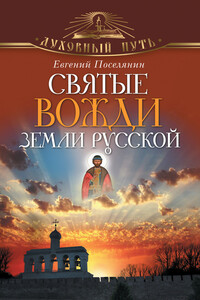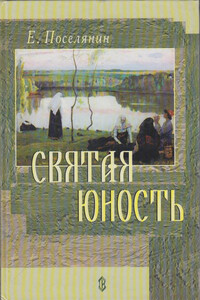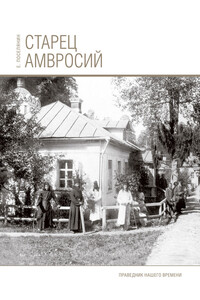Русские подвижники 19-ого века | страница 51
Эти люди — писатели, ученые, художники, святые.
Грубое прикосновение жизни, несоответствие запросов их души с окружающею их действительностью обособляет их от толпы, замыкает их в их внутреннем прекрасном мире, и из этого мира они творят на отраду и утешение мятущемуся человечеству бессмертные, вечные создания; писатели и художники — дивные произведения искусства; ученые — отысканную ими научную истину; святые — непреходящие, озаренные нездешнею красотой дела высочайшего, безусловного добра, воплощение в себе евангельской правды.
К таким людям принадлежал и епископ Феофан.
Ему трудно было среди мира и тех требований, которым надо уступать вследствие людской испорченности.
Беззаветная сердечная доброта, голубиная кротость, доверчивость к людям и снисходительность, — все это в нем говорило, что не ему жить среди непримиримых раздоров суетной мирской жизни.
Как начальнику, ему было тяжело, в особенности при значительности епископской власти.
Его доверием могли злоупотреблять; он не мог никому делать нужных выговоров. Когда это было необходимо, он поручал исполнить это своему ключарю.
Он, кроме того, чувствовал, что он может сказать книгами много такого, что крайне нужно сказать, и что еще почти никем не сказано. Его звала мысль отдать все силы духовному писательству. Это было внешнее побуждение.
А лично для себя — он желал все помыслы отдать одному Богу, Которого он так беззаветно любил. Ему хотелось, чтоб ничто не нарушало дорогого ему и совершенного общения с Богом. И он ушел от мира, чтоб быть наедине с Богом.
Он сам говорил впоследствии:
— Есть, например, посвящающие себя науке, искусству — отчего? Такой талант! — Почему же не благоволить к тем, которые посвящают себя Богу? Ибо и это дар Божий, и настроение духа таково.
Пример у епископа Феофана был постоянно пред глазами: это — святитель Тихон, к которому его с детства так влекло, и который тоже, оставив одну епархию, стал духовным кормильцем всего русского народа.
Конечно, удаляясь с кафедры, епископ Феофан больше всего думал о спасении своей души путем совершенного посвящения каждой мысли и дыхания Богу. Но над ним сбылось слово Христово.
В затворе, невидимый людям, он стал общественным деятелем громадной величины. Он искал царствия Божия, а само приложилось ему великое его значение для мира.
24 июля 1866 г., в воскресенье, произошло прощанье епископа с паствою.
После литургии, им отслуженной, епископ сказал последнее слово среди мертвой тишины, в которой слышались только иногда тихие рыдания. Он говорил: