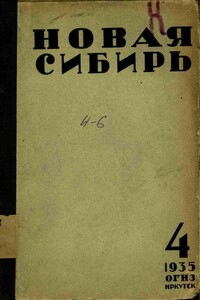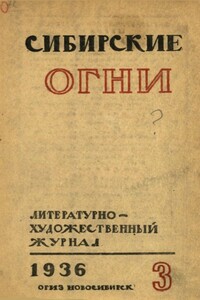Ассирийская рукопись | страница 56
— Я, видите ли, покушать захотел, и мне как раз полфунта муки принесли... — оправдывался он.
О тюленях договорились мы быстро, он был спец по зоологии позвоночных и обещал зайти в музей посмотреть.
Трудовой мой день был закончен, и я пошел обедать в столовку Нарпита.
На первый взгляд, столовка походила скорее на баню. Помещалась в полутемном подвале. Была наполнена паром: морозным — с улицы и горячим — из кухни. Смесь разнообразнейших ароматов висела над грязной полутьмой, и в ней маячили люди, стоявшие в очереди, сидевшие за столами, уходившие и входившие. Я глотал горячее хлебово со скользкими, как грибы, безвкусными обрывками легких, глотал торопливо, быстротой насыщения компенсируя недостающий вкус.
От окружающего было впечатление злостной пародии на ресторан. Иные с собой приносили дополнительные кусочки хлеба и, окончив еду, заботливо завертывали уцелевшие крошки.
И защитный цвет серой шинели придавал обладателям их и здесь особую уверенность акклиматизировавшихся: у них и голос звучал иначе и повадка была порешительней. А те, которые донашивали старые, «приличные» пальто и шубки, — держались забито и даже растерянно, и я глядел на них с невольной жалостью. Это были, может быть, чеховские дяди Вани, Астровы и сестры, растерявшие свои вишневые сады и когда-то мечтавшие о сказочных кутежах и обретшие ныне свой обеденный час в столовке Нарпита.
А мне, как музейному человеку, было интересно думать о крупинках былой красоты, некогда носимых этим людом. Вышел я из столовой уже затемно и направился к дому.
Тонко таял снежок на лице, я шел, и мне вспомнилась Инна. Всегда она захвачена каким-нибудь интересом, переполнена им до краев, и других захватывает тем же или, может быть, собой. Голодная, а глаза веселые, как ее восемнадцать лет...
Реже встречались прохожие — глуше и пустыннее сделались улицы. Отворяю чугунную калитку, вхожу в ущелье двора. Двор — узеньким тупиком. С одной стороны громада музея. С другой — высокий брандмауэр, и к нему прилепилась моя сторожка. В музее потухли огни — уже окончена работа.
Новый день — новая жизнь.
— Вставай, кочегар, — стучит мне в окошко Сергей. — Отпирай свой замок!
На щеке у него мазок оранжевой краски.
— Не беда... — вытирает лицо рукавом: — Сегодня с портретом возился.
Мы входим в музей. В нем время не имеет, кажется, власти. Как стояли вчера фигуры с застывшей гримасой или улыбкой, в такой же позе и с тем же лицом встречают они меня и сегодня. И бумажка, оброненная вечером на пол, терпеливо ждала всю ночь моего возвращения. И все-таки, как-то невольно, с любопытством заглядываешь в просторную залу, перешагивая порог. Словно протекшие часы могли изменить неподвижные изваяния, или лица их могли загореться другой, не вчерашней улыбкой. Но все, конечно, было без смены.