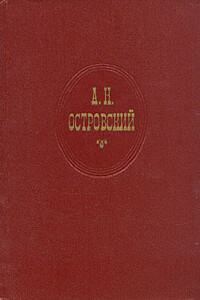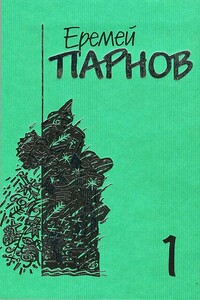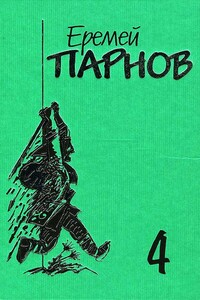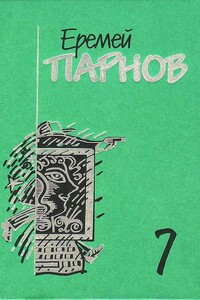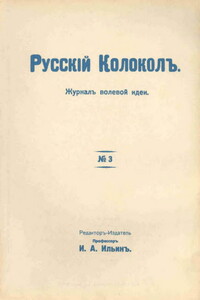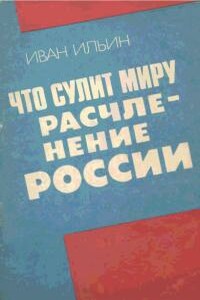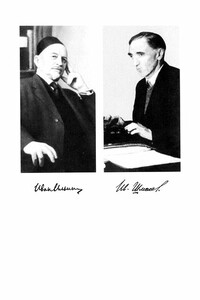Образ Идиота у Достоевского | страница 11
Князю Мышкину не пришлось все это пережить самому, его самобытность, о которой я еще скажу, избавила его от этого.
Он знает, что такое сущность, только не хочет распространяться об этом. Но Аглая, это проницательно-умное и прекрасное дитя, чувствует в нем сие богатство и выпытывает у него признание:
«То есть, вы думаете, что умнее всех проживете?» — «Да, мне и это иногда думалось». — «И думается?» — «И… думается», — отвечал князь, по-прежнему с тихою и даже робкою улыбкой…»>[31]
Да, он мало понимает в жизни. Но в сущности ее он понимает много.
Вот почему он говорит так смиренно и так смущенно: «…я, действительно, пожалуй, философ, и кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать… Это может быть; право, может быть»>[32].
Вот почему он так часто рассеян и погружен в думы свои, ведь он постоянно возвращается к сущности, потому что там его дом.
А когда его попросят говорить или рассказать об этом, он тут же из скромности смутится и растеряется.
Однако едва ли он может и едва ли он должен толковать о сущности: так он «скор и доверчив», так воодушевлен и восторжен — вдруг «тотчас же забыв о всем остальном», окунается в стихию сущности, и — текут слова, рассказы, сценки, идеи>[33].
Его жизнь состоит в том, чтобы прислушиваться к сущности в себе самом, в других, во всяком положении дел.
Достоевский постоянно говорит о его отношении к жизни, что оно внимательно, изучающе, серьезно, тихо, робко и опять изучающе, без устали описывает его погруженность в себя, рассеянность, порою как бы отрешенность>[34].
Для этого человека тяжело и обременительно как раз несущественное. К тому же он знает, что люди в основном проматывают свою жизнь в несущественном. Вот почему он страдает от людей и среди людей.
Порой он начинает говорить о существенном ни с того, ни с сего, хотя бы с тем же случайно подвернувшимся слугой в передней>[35]
Счастлив он лишь тогда, когда пребывает в существенном, когда созерцает из существенного, из существенного говорит, в существенном любит и из существенного любим.
Вот почему угасла его любовь к Настасье Филипповне: прожив с нею месяц, он понял, что она утратила свою сущность, что она чувствует безумно, безумно ходит, безумно живет и в высшем, духовном, смысле сделалась «не в своем уме».
Вот почему он тоскует по новой, духовно сущностной любви к Аглае.
4
Чтобы понять такого человека, надо постигнуть одну тонкость: почему он бывает так счастлив и в чем его счастье. Например, сам он говорит сестрам Епанчиным, что во время пребывания в лечебнице «почти все время был счастлив». «Счастлив? Вы умеете быть счастливым?» — дивится Аглая. Князь отвечает: «Я все почти время за границей прожил в этой швейцарской деревне… Сначала мне было только нескучно; я стал скоро выздоравливать; потом мне каждый день становился дорог, и чем дольше, тем дороже, так что я стал это замечать. Ложился спать я очень довольный, а вставал еще счастливее. А почему это все — довольно трудно рассказать…»