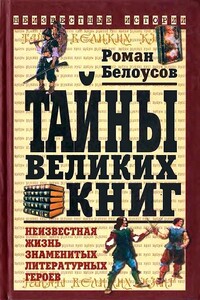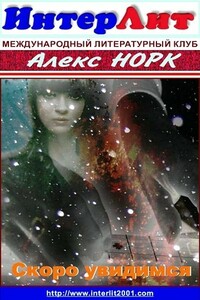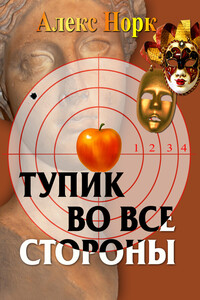Листая страшные страницы | страница 48
Однако среди ее героев вы не встретите самого легендарного имени. Оно лишь мельком указано в Большой Советской Энциклопедии, и больше почти нигде.
Александр Самойлович Фигнер.
Мелкопоместный дворянин. Русский, хотя фамилия восходит к какому-то западному корню.
В известной нам литературе Александр Фигнер встречается в кратком описании всего лишь дважды. В «Рославлеве» Михаила Загоскина, добросовестного, но второразрядного писателя 20-ых годов прошлого века, и в уже упоминавшейся нами работе Ф. Гарина.
В 1812-ом Александру Фигнеру исполнялось двадцать пять лет.
Но остановимся и уточним ситуацию, сложившуюся после сдачи Москвы и начала активного партизанского движения, которое известно только по самому этому названию, но не по фактической военной сути.
Согласно стратегическому плану еще Барклая-де-Толли, Наполеон должен был постоянно искать генеральной битвы и не в коем случае не получать желаемого полномасштабного столкновения.
Русский ум хитер на уловки, неважно какая фамилия за ним стоит. И Барклай здраво рассудил, что привыкшим к малым западноевропейским пространствам французам, великолепно отработавшим там тактику стремительных действий, следует застрять на российский равнинах и быть подверженными постоянным набегам мелких и средних по численности российских отрядов. Набеги планировались отнюдь не в смысле простого беспокойства противника, а как задача постоянных истощающих его живую силу операций. Потери от них ставились в соотношение как минимум один — к двум, не в пользу французов. Разрыв коммуникаций (поставок военных средств, продовольствия и фуража) был второй не менее важной задачей.
Поэтому партизанская война Барклая, а в дальнейшем Кутузова, это тяжелая русская кровь за еще более тяжелую кровь оккупантов, и не нужно представлять дело так, как это показано в опереточной кинокартине «Давным-давно». Из набегов возвращались далеко не все.
«Партизанской» война была только по одному названию. После сдачи Москвы она окончательно приобрела характер хорошо организованных специальных военных действий.
Французы оказались зажатыми в три кольца, по периметру которых постоянно перемещались отдельные мобильные отряды. Численный состав нарастал по мере расширения колец. Поэтому в первом, самом узком, работали только небольшие и чрезвычайно подвижные группы. Серьезного боя они выдержать не могли и занимались главным образом тем, что отстреливали противника из засад и незамедлительно уходили. Во втором кольце шли на непродолжительные бои. В третьем оперировали уже полковые подразделения, использовавшие, в том числе, артиллерию.