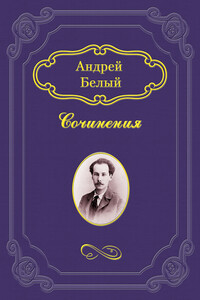Книга 2. Начало века | страница 96
(Ибсена, Гамсуна, Роденбаха, Брюсова), пока только в нашем кружке гремевшего Блока;>226 и, конечно: большинству из нас говорил символизм; но была иная тональность подхода к произведениям, связанным с символизмом, резко нас отделявшая от «старших», от литераторов и поэтов, группировавшихся вокруг Валерия Брюсова, которого я посещал и о журфиксах которого я рассказывал; там провозглашали символизм как литературную школу, главным образом связанную с традициями французских поэтов; у нас «символизм» понимали шире, но неопределеннее; Брюсов учил: символизм появился как течение в таком-то году; в таком-то году в таком-то кафе такие-то поэты постановили то-то и то-то; в таком-то году в Германию перекинулись такие-то лозунги, и т. д., словом, — выходило: от сих и до сих пор (ясно, четко, определенно). Проблемы школы не интересовали нас; и, по правде сказать: только Эллиса интересовали французские поэты-символисты; нас интересовала проблема новой культуры и нового быта, в котором искусство — наиболее мощный рычаг, но которого формулы отчеканятся в будущем; пока — о них говорить рано; наша задача — принести посильную лепту на алтарь этого будущего, видимого смутно и противоречиво; тут мы, конечно, преувеличивали наши силы; и Репетилов, рождавшийся среди нас и над нами, как клубы дыма, выпускаемого разом из двадцати папирос, — рисовал нас, «пигмеев», гигантами (это Эртель вовсю зажаривал!); и потом: в оценке и в отрицании значимости старого и нового искусства мы расходились существенно: для меня, например, непререкаемо было, с легкой руки Метнера, значение германской культуры в новом искусстве: Ницше, Вагнер, Григ, Ибсен, Гамсун и другие немцы и скандинавы перевешивали Бодлеров, Верленов и Метерлинков — всегда; ко мне присоединялся Владимиров; Челищев вносил ноту польского модернизма; Рачинский струил из толстой своей папиросы дым хвалы немецкому романтизму, тыкая нас носами в Новалисов, Эйхендорфов и Шлегелей; а Э. Метнер издалека, в фунтовых своих письмах, читаемых мною друзьям, взывал к переоценке по-новому Канта, Бетховена, Шумана; и слышался с его нервных, зигзагистых строк нервный крик: «Гете, Гете и Гете!»
Диапазон наших интересов был необычайно широк, чрезмерно широк; и оттого — расплывчат.
И кроме того: в начинавшемся «Скорпионе» не было четкого разделения на декадентов и символистов; публика говорила: «декаденты и символисты». Тогдашние «скорпионы» принимали вызов, доказывая, что «декаденты и символисты» не упадочники; у нас в кружке это «и» — союз; — может быть, впервые принял разделительный смысл: «символисты» — это те, кто, разлагаясь в условиях старой культуры вместе со всею культурою, силятся преодолеть в себе свой упадок, его осознав, и, выходя из него, обновляются; в «декаденте» его упадок есть конечное разложение; в «символисте» декадентизм — только стадия; так что мы полагали: есть декаденты, есть «декаденты и символисты» (т. е. в ком упадок борется с возрождением), есть «символисты», но не «декаденты»; и такими мы волили сделать себя. И я развивал: судьба декадентов — судьба разбившегося летчика, Лилиенталя;