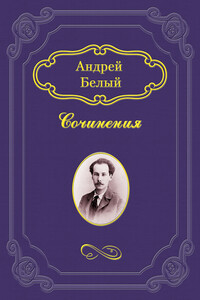Книга 2. Начало века | страница 20
А С. Л. Иванов — умница, с наукой в груди, с интересами к педагогике; не сухарь, а каламбурист, подхватывающий дичь и раздувающий ее до балаганного гроха; в перце его жил Раблэ, поданный под соусом Эдгара По, которого он вряд ли читал, отдавая свободное время науке; высокий, шест с набалдашником, вооруженным очками, бледный, худой, угловатый, произносящий с невозмутимой серьезностью вещи, от которых бы пал и слон.
Не забуду его «галопа кентавра» мимо стен Девичьего монастыря — к прудику: руки — в боки, глаза навыкате, щеки — пузырем; черная морщинка, перерезающая лоб: точно спешит на кафедру; «ученый муж» — инсценировщик моих стихов о кентаврах; мы их разыгрывали в подмосковных полях по предложению С. Л. Иванова с таким тщанием, точно кентавр — биологическая разновидность, которого костяк поставлен в Зоологическом музее; юмор его — внесение докторальности и критической трезвости в чушь; и чем она чудовищней, тем проще, доричней говорил о ней С. Л. Иванов; так дело обстояло и с кентавром: и «кентавр» в исполнении Иванова был тем именно, который вам хорошо известен: по полотнам Штука.
В. В. Владимиров, питавший слабость к Иванову, загоготав, расправив бороду, пускался, бывало, за ним вскачь по направлению к Воробьевым горам.
А молчаливый, с виду сухой, рассудительный, будущий преподаватель математики Д. И. Янчин (сын известного педагога)! Он резонировал чуткостью; этим резонансом стал нам необходим.
А Н. М. Малафеев, из крестьян, воловьими усилиями умственных мышц, без образовательного ценза пробившийся к проблемам высшей культуры, крепыш с норовом, являющий в капризах крепкого нрава сочетание из Гогена с Уитманом на русский лад, народник, умеющий показать Глеба Успенского, умеющий нас привести к сознанию, что и Златовратский — художник. С умом, с тактом вводил Михайловского, Писарева и Чернышевского в темы «сегодня»; не вылезал из нужды; под градом ударов бился за право окончить медицинский факультет и уехать в деревню: служить народу; эту программу он выполнил; след его погас для меня где-то в глуши; вижу его, как наяву: высокий, широкоплечий, кряжистый, с каштаново-рыжавою бородой, с лысинкой; косился на всякого «нового», попадающего в наш круг; не выносил позы; отдаленный привкус дэндизма приводил его в бешенство; он был культурником-демократом, не переносящим «барича»; старше многих из нас, он был всех проницательней в просто жизни; ощупав в ком-нибудь уязвимую пяту, выходил из угла; вытянув большелобую, упрямую голову, грубо раздавливал им испытуемую пяту своими дырявыми сапожищами.