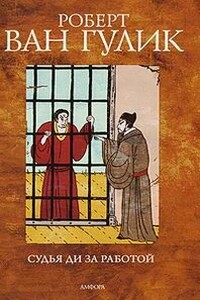Смерть на брудершафт (Фильма 9-10) | страница 21
— Вот, держите!
Волжанка подобрала «браунинг». Голос у нее дрожал, рука тоже, а все-таки не растерялась.
— Кому писал? — спросил Зепп.
Не получив ответа, ударил пальцем под ложечку.
Железнов всхлипнул, рухнул на колени.
— Кому писал? — спокойно повторил майор. — Люпусу? Говори, все равно заставлю.
— Ему…
Волжанка спросила:
— Кто это Люпус?
— Резидент русской сети. Мне товарищи на него ориентировку дали.
— Кому помогаете, дураки? — хрипел Железнов, подняв мокрое от слез лицо. — Немцам? Ведь вы русские! И Люпус русский!
— На свете есть только две нации: пролетарии и кровососы, — объяснил ему Зепп основы классовой философии. — Ты, выходит, за кровососов. Ну и получай, что заслужил.
«Браунинг» он сунул в карман, а Железнова взял за горло, немного подержал и отпустил. Тело повалилось ничком.
— Вы его задушили? — боязливо спросила Волжанка. — Разве не нужно было допросить?
— Он и так уже всё сказал. Душить — дело долгое. Я просто сжал сонную артерию. Пусть поспит.
Это он растолковал, уже начав приводить комнату в порядок. Поставил опрокинутый стул, «Капитал» — на место, скомканный половик расправил. Потом взял со стола карандаш, чистый листок, положил для образца почерка смятую бумажку с донесением.
«Прощайте, товарищи. Устал». Вроде похоже. Да и не станет полиция усердствовать из-за какого-то подозрительного иностранца, которому жить надоело.
Пистолет зажал вялой рукой бесчувственного Железнова. Прижал дуло к виску поплотнее. Волжанка было отвернулась — и устыдилась слабости, заставила себя смотреть.
Хорошая штука карманный «браунинг». Для боя, конечно, дрянь, а вот для инсценировки самоубийства в жилом доме — то, что надо. Звук получился не громче, чем при открытии бутылки шипучего секта.
— Нервный срыв эмигранта-революционера, — сказал Зепп, поднимаясь. — Обычное дело.
Волжанка молчала, не в силах пошевелиться. Смотрела на обожженную выстрелом кожу и на маленькую дырку, над которой выдулся багровый пузырь, пролился струйкой на половик.
ПОЛОВОЙ ИНСТИНКТ
Слабая, жалкая, истеричная дура.
В кафе зашли, потому что на улице ей стало дурно. Чтоб не выдать себя, предложила:
— Посидим? Нужно всё обсудить.
К вечеру тучи раздвинулись, пригрело солнце, и сидеть на улице было совсем не холодно, поэтому дрожащие руки Антонина спрятала под столик. Когда принесли кофе, сказала:
— Пускай остынет. Не люблю горячий.
На самом деле любила обжигающий, но боялась расплескать.
И все-таки опозорилась. Взяла у Кожухова папиросу, а прикурила с трудом — никак не могла попасть трясущимся кончиком в огонек спички.