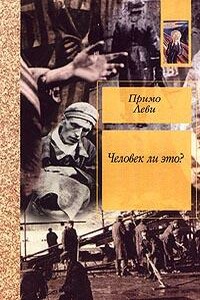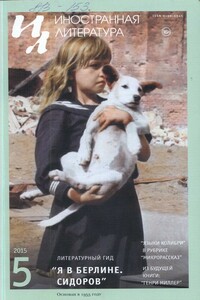Канувшие и спасенные | страница 93
Несмотря на неудачный старт, книга отправилась в путь: ее перевели на восемь или девять языков, включили в школьные программы, по ней сделали радиопостановки и театральные пьесы не только в Италии, но и заграницей. Очень важным, решающим для меня этапом стала ее публикация на немецком языке в Федеративной Республике Германия. Когда в 1959 году я узнал, что немецкое издательство Fischer Biicherei приобрело права на перевод, меня захлестнула волна никогда не испытанных прежде чувств, словно я выиграл сражение. Вот ведь как получилось: я писал, не видя перед собой конкретного адресата, писал для себя о том, что было у меня внутри, что переполняло меня и требовало выхода, я готов был говорить об этом, нет, кричать на весь мир, но кто обращается ко всем — не обращается ни к кому, вопиет в пустыне. Однако предложение контракта со стороны немецкого издательства все поставило на свои места, и мне стало ясно: да, я написал свою книгу по-итальянски, для итальянцев, для детей, для тех, кто не знал, кто не хотел знать, кто еще не успел родиться, кто по собственной воле или против воли сносил оскорбления; но подлинные адресаты, те, на кого, словно оружие, направлена книга, — это они, немцы. И теперь это оружие будет пущено в ход.
Не стоит забывать, что после Освенцима прошло всего пятнадцать лет, и мою книгу будут читать «те самые» немцы, а не их дети или внуки. Из притеснителей, равнодушных наблюдателей они превратятся в читателей, и я заставлю их посмотреть на самих себя в зеркало. Настало время свести счеты, открыть карты, а главное — поговорить. Я не думал о мести; меня вполне удовлетворили результаты священного действа, разыгранного в Нюрнберге (пусть символического, неполного, во многом тенденциозного); я был доволен, что справедливейший приговор — смерть через повешение — преступникам вынесли те, кому и положено по закону, — судьи. Я хотел только понять, понять их, немцев. Не когорту главных преступников, а людей, которых видел сам, — тех, из кого набирались эсэсовцы, тех, кто верил, и тех, кто не верил, но молчал, не осмеливаясь посмотреть нам в глаза, бросить кусок хлеба, сказать хоть одно человеческое слово.
Я очень хорошо помню то время и ту атмосферу и думаю, что могу судить тогдашних немцев без предвзятости, с холодным сердцем. Почти все (но не все) были глухи, слепы и немы; эти «инвалиды» составляли основную массу, плоть, в сердцевине которой находилась горстка нелюдей. Почти все (но не все) боялись, поэтому именно здесь, объективности ради, чтобы доказать, насколько я далек от огульных осуждений, мне хочется рассказать один эпизод — исключительный, но тем не менее случившийся на самом деле.