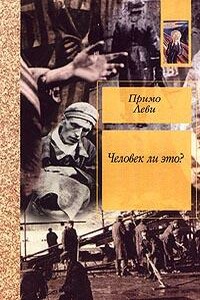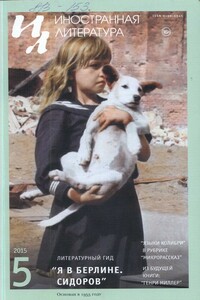Канувшие и спасенные | страница 54
Редкий пример влияния идиша на немецкий есть в моей книге «Человек ли это?». В главе «Краус» я привожу слова французского еврея польского происхождения Гунана, обращенные к венгру Краусу: «Langsam, du, bloder Einer, langsam, verstanden?». Если перевести это дословно, получится: «Медленно, ты, дурной один, медленно, понятно?» Звучала фраза немного странно, но я был уверен, что именно так она была произнесена тогда, тем более что записал я ее по свежей памяти, в 1946 году. Немецкого переводчика мне убедить не удалось: я, мол, или ослышался, или не так запомнил. После долгой эпистолярной дискуссии он убедил меня исправить текст, казавшийся ему неприемлемым. В результате в опубликованном немецком переводе фраза звучит так: «Langsam, du, bloder Heini, langsam, verstanden?» (Хайни — уменьшительное от Хайнрих, Генрих). Но позднее в прекрасной книге об истории и структуре идиша (J. Geipel. Mame Loshen. London: Journeyman, 1982) я обнаружил типичную для этого языка форму «Khamoyer du еупег!» («Осел ты, один!»). Значит, моя механическая память меня не подвела.
От отсутствия и недостатка коммуникации не все страдали в равной мере. Некоторые, одиночки по натуре или привыкшие к одиночеству еще в прежней, «гражданской» жизни, казалось, не страдали от изолированности, и это безразличие к своей обособленности, равнодушие, отношение к исчезновению слова как к должному было фатальным симптомом, свидетельствующим о приближении окончательной апатии. Большая часть заключенных, прошедших критическую фазу посвящения, пытались обезопасить себя, каждый по-своему: одни собирали информацию по крохам, другие распространяли ее сами, без разбора пересказывая новости — хорошие и плохие, правдивые и ложные, а то и просто придуманные; у третьих всегда были «ушки на макушке», чтобы уловить и объяснить любой знак, посланный с земли или с неба. К недостатку коммуникации внутри лагеря добавлялся недостаток коммуникации с внешним миром. В некоторых лагерях изоляция была полнейшая. Мой лагерь Моновитц-Освенцим можно было считать в этом плане привилегированным: почти каждую неделю он пополнялся «свежими» заключенными со всех концов оккупированной Европы; новички привозили последние новости, часто рассказывали то, чему сами были непосредственными свидетелями. Игнорируя запреты, не думая о грозящей нам опасности, если кто-нибудь донесет в гестапо, мы в рабочее время разговаривали с польскими и немецкими вольнонаемными, иногда даже с английскими военнопленными, доставали из мусорных баков газеты (не больше чем недельной давности) и жадно читали их от корки до корки. Один мой находчивый лагерный товарищ, журналист по профессии, двуязычный, как все эльзасцы, хвастался, что подписан на Volkischer Beobachter, самую авторитетную в то время ежедневную немецкую газету. Каким образом? А очень простым! Попросил одного надежного немецкого рабочего подписаться на свое имя, оплатив подписку золотой коронкой из собственного рта. Каждое утро во время долгого ожидания переклички на