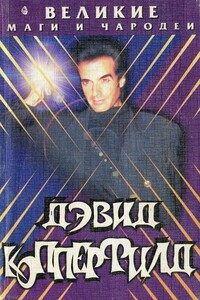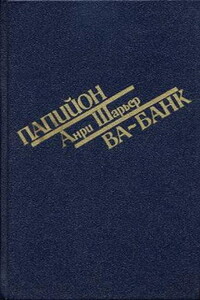Борис Пастернак | страница 5
Эта удачливость сопровождала его всю жизнь – впрочем, почти любую жизнь, если речь не идет о безнадежно больном или с рождения заклепанном во узы, можно пересказать под этим углом зрения; вопрос – на что обращать внимание. Самой Ахматовой не раз выпадали фантастические взлеты и ослепительные удачи, – но изначальная установка на трагедию больше соответствовала ее темпераменту: при всякой новой неудаче она произносила сакраментальное: «У меня только так и бывает». Жизнь Пастернака выглядит не менее трагической – разлука с родителями, болезнь и ранняя смерть пасынка, арест возлюбленной, каторжный поденный труд, травля, – но его установка была иной: он весь был нацелен на счастье, на праздник, расцветал в атмосфере общей любви, а несчастье умел переносить стоически. Оттого и трагические неурядицы своей личной биографии – будь то семнадцатый год, тридцатый или сорок седьмой, – он воспринимал как неизбежные «случайные черты», которые призывал стереть и Блок. Однако если у Блока такое настроение было редкостью – подчас неорганичной на фоне его всегдашней меланхолии (какое уж там «Дитя добра и света!»), – то Пастернак тает от счастья, растворяется в нем:
А ведь это больничные стихи, задуманные «между припадками тошноты и рвоты», после обширного инфаркта, в коридоре Боткинской больницы – в палате места не нашлось. Врачи, лечившие его во время последней болезни, вспоминали о «прекрасной мускулатуре» и «упругой коже» семидесятилетнего Пастернака, – что же говорить о Пастернаке сорокачетырехлетнем, в избытке поэтического восторга носившем на руках тяжелого грузинского гостя; о пятидесятилетнем, с наслаждением копавшем огород —
И если в пятьдесят и даже шестьдесят он все еще выглядел юношей – что говорить о двадцатисемилетнем Пастернаке, о Пастернаке-ребенке —
Этот заряд счастья и передается читателю, для которого лирика Пастернака – праздничный реестр подарков, фейерверк чудес, водопад восторженных открытий; ни один русский поэт с пушкинских времен (кроме разве Фета – но где Фету до пастернаковских экстазов!) не излучал такой простодушной и чистой радости. Тема милости, дарения, дара – сквозная у Пастернака: