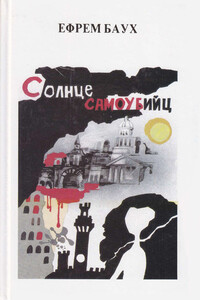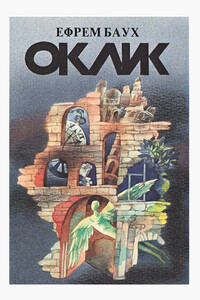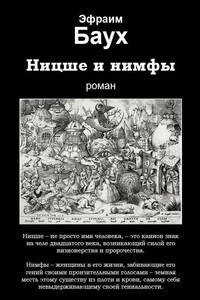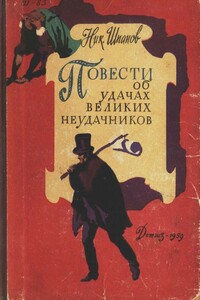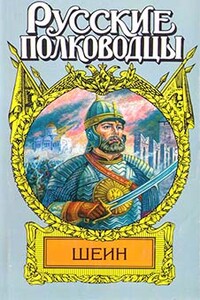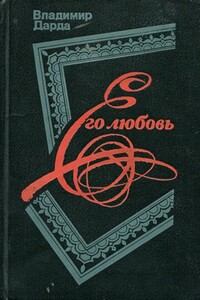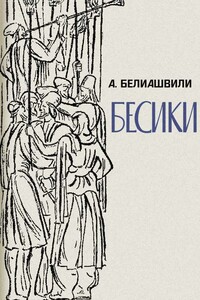Иск Истории | страница 68
Всякий текст подспудно связан, прочен и зависим от «теологического контекста», Стоит подумать над тем, не будет ли разрушена любая речь при попытке сделать ее независимой от этого «теологического контекста». Сообразность и прочность мира держится на этой основе, скреплена Высшим присутствием. Снять эти скрепы, и все разваливается в кровавый хаос «конца дней».
Эсхатология – предупреждение – Другого, Бога, иудея – против провала в этот хаос.
Эсхатология напрягает Историю, заставляя ее балансировать над пропастью вечно ожидаемого Апокалипсиса, тем самым взывая к ценностям жизни, как правды и справедливости, что, по сути, и есть ожидание Мессии – понятия в развороте Бесконечного.
Духовно, душевно, общностью судеб философия Эммануила Левинаса не могла не пересечься с поэзией Пауля Целана – в Париже их проживания, самоубийства последнего или любом другом месте Бесконечного.
Левинас пишет работу «Бытие и Иное» о творчестве Целана, и главным образом о «Полуденной линии»: «...Может быть, центробежное движение «устремленности к другому» и есть подвижная ось бытия?.. Как будто идущий навстречу другому человеку выходит за пределы человеческого в область утопии. И как будто утопия – не сон и не удел проклятого изгойства и скитальчества, а «просвет», в котором только и становится видным человек... Вне укорененности и любой принадлежности – безродность как подлинность!»
Но самое поразительное в поэзии Целана, когда «я» посвящает себя другому, – это возврат – «...не в ответ на оклик, а силой бесконечного кругового движения, безупречной траектории, полуденной линии, которую описывают в своей конечности без конца – стихи. Как будто идя к другому, я вернулся и врос в теперь уже родную и свободную от моей тяжести землю. Земля, родная не по начальным корням, не по первому роду занятий, не по рождению. Родная земля или земля обетованная? Извергнет ли она своих обитателей, если они забудут тот круговой маршрут, который сделал им эту землю близкой, и свои скитальчества, посланные им не для отрыва от родины, а для разрыва с язычеством? Но место жительства, удостоверенное движением к другому, и составляет суть еврейства» (Эм. Левинас. «Бытие и Иное»).
По Левинасу, Целан никогда не видел в еврействе живописную особенность или семейный фольклор.
«Без всякого сомнения, крестные муки Израиля при Гитлере, – пишет Левинас, познавший это на своей шкуре, как и Целан, – тема его двадцатистраничной «Стретты», этой жалобы жалоб... в глазах поэта исполнена смысла для человечества, как такового, и еврейство здесь – лишь предельная возможность (или невозможность), разрыв с простодушием вестника, посланца или пастыря бытия. Треснувший мир, открывающийся не приютом, а камнем (вспомним Мандельштама. – Прим. автора), по которому стучит посох спутника, отзываясь наречием минералов». Бессонница на ложе бытия, невозможность свернуться, чтобы задремать. Изгнание из «живущего миром мира», нагота того, чье имущество взято взаймы, нечувствительность к природе, потому что у еврея – «...тебе ли не знать, есть ли у него хоть что-нибудь, что и вправду принадлежит ему, а не занято, не одолжено, не присвоено?» (слова из «Полуденной линии» Целана).