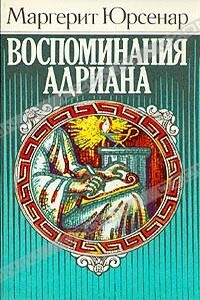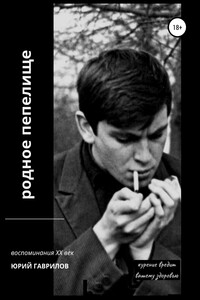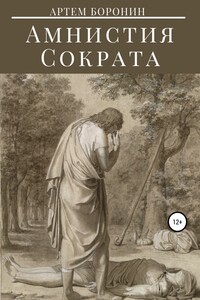Последняя милость | страница 29
Фолькмар так опешил, что даже не сразу бросился на меня. Руген разнял нас и, кажется, силой усадил меня в вольтеровское кресло. Праздник, однако, грозил завершиться боксерским поединком; в общей суматохе Фолькмар надсаживал глотку, требуя извинений; все решили, что мы оба пьяны, и это уладило дело. Завтра нам предстояло отправиться на опасное задание; глупо, в самом деле, драться с товарищем в рождественский вечер, да еще из-за женщины, которая тебе не нужна. Меня заставили пожать Фолькмару руку; вообще-то зол я был только на самого себя. Софи между тем скрылась, шумно прошуршав тюлевыми юбками. Вырвав ее из объятий партнера, я сломал застежку тонкой нитки жемчуга, которая была у нее на шее, — подарок от ее бабушки Галицыной на день конфирмации. Никчемная безделушка валялась на полу. Нагнувшись, я машинально сунул ее в карман. Мне так и не представилось случая вернуть эту нитку Софи. Я часто подумывал продать ее в нору безденежья, но жемчуг пожелтел, и ни один ювелир не захотел его купить. Нитка все еще у меня, вернее, она была у меня, на дне чемоданчика, который в этом году в Испании у меня украли. Порой хранишь какую-то вещицу, сам не зная зачем. В ту ночь по ритмичности хождений от окна к шкафу и обратно я мог бы потягаться с тетей Прасковьей. Я был босиком, и шорох моих шагов не мог разбудить уснувшего за занавеской Конрада. Раз десять я нашаривал в темноте ботинки и куртку, решившись идти в комнату Софи, уверенный, что на сей раз застану ее одну. Повинуясь смешному стремлению едва созревшего ума к определенности, я все еще спрашивал себя, люблю ли я эту женщину. Да, до сих пор моей страсти не хватало доказательства, которое тем из нас, кто не оскотинел, служит, чтобы удостоверить любовь, и видит Бог, тут я таил обиду на Софи за мои собственные колебания. Но вот в чем была беда этой девушки, не по своей вине оказавшейся всем доступной: помышлять можно было лишь о том, чтобы связать себя с нею на всю жизнь. В пору, когда все летит в тартарары, говорил я себе, эта женщина надежна, как земля, на которой можно построить дом или обрести покой. Было бы прекрасно начать с ней жизнь заново, подобно жертвам кораблекрушения на пустынном берегу. Язнал, что все это время хожу по грани; чемдальше, тем труднее мне будет оправдывать себя; Конрад состарится, я тоже, и не век же списывать все на войну. Я останавливался у зеркального шкафа, и доводы против, не всегда низменные, снова брали верх над доводами за, не всегда бескорыстными. С напускным хладнокровием я спрашивал себя, как же я намерен поступить с этой женщиной, и, конечно же, назвать Конрада шурином я не был готов. Разве можно бросить ради сомнительной интрижки с его же собственной сестрой божественно юного старого друга с двадцатилетним стажем? Потом — как будто, меряя шагами комнату, я раскачивал маятник — меня бросало в обратную крайность, и я становился на время другим человеком, который плевать хотел на мои личные сложности и, наверное, походил, как две капли воды, на всех моих соплеменников, до меня подбиравших себе невест. Этот парень был попроще меня и трепетал, как все и каждый, при одном воспоминании о белой груди. Незадолго до восхода солнца, если оно вообще всходило в те серые дни, я услышал легкий, призрачный шорох — так шуршит женское платье, трепеща на сквозняке в коридоре, — тихое царапанье в дверь — так скребется ручной зверек, прося хозяина впустить его, — и прерывистое дыхание женщины, которая бежала навстречу своей судьбе. Софи заговорила шепотом, прижавшись губами к дубовой перегородке; она знала четыре или пять языков, в том числе французский и русский, и могла с их помощью разнообразить те неловкие слова, что у любого народа самые затертые и самые чистые.