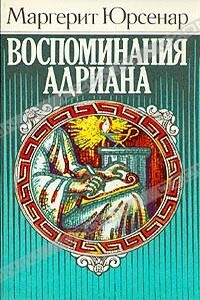Последняя милость | страница 25
— Счастлив, — нехотя ответил я, внезапно поймав себя на том, что попросту лгу.
— Да? Что-то не похоже, — поддразнила она, и прежняя школьница на миг проглянула в ее усмешке. — Значит, вы счастливы, и поэтому вам не страшно умереть?
В залатанной черной шали поверх фланелевой ночной рубашки приютского вида она походила на служаночку, которая, еще не совсем проснувшись, спешит среди ночи на звонок. Я и сейчас не знаю, чем был вызван мой смешной и неуместный жест: я распахнул окно. После рубки леса, так печалившей Конрада, пейзаж оголился, и сверху просматривалась даже река, где, как и каждую ночь, перекликались беспорядочные и бесполезные автоматные очереди. Вражеский самолет еще кружил в зеленоватом небе, и тишина полнилась жутким гудением мотора, будто огромная оса бестолково металась по комнате. Я увлек Софи на балкон, точно возлюбленный в лунную ночь; мы смотрели, как внизу дрожит на снегу широкий луч от лампы. Должно быть, сильного ветра не было: отсвет едва колыхался. Моя рука обнимала Софи за талию, и мне казалось, будто я, как врач, слушаю ее сердце, — это измученное сердечко замирало, вновь начинало мужественно отбивать удары, и, как мне помнится, единственной моей мыслью было: если нам суждено погибнуть этой ночью, то все же я сам выбрал смерть подле нее. Вдруг чудовищной силы взрыв грянул совсем рядом; Софи зажала уши, как будто этот оглушительный грохот был страшнее смерти. На этот раз бомба упала в двух шагах от дома на железную крышу конюшни: две наших лошади поплатились в ту ночь жизнью за нашу браваду. В наступившей затем немыслимой тишине было слышно только, как бесконечно долго, толчками, рушилась кирпичная стена и дико ржала умирающая лошадь. Окно за нами разлетелось вдребезги; мы вернулись в комнату, ступая по битому стеклу. Я погасил лампу — так обычно зажигают свет после любви.
Она вышла вслед за мной в коридор. Там безобидный огонек коптилки по-прежнему теплился перед одним из образов тети Прасковьи. Софи часто дышала; лицо ее, лучезарно бледное, сказало мне, что она меня поняла. Я пережил с Софи и более трагичные минуты, но не было у нас другой такой торжественной и настолько близкой к обручению. То был ее час в моей жизни. Она вскинула руки в чешуйках ржавчины от балконных перил, на которые мы с ней минуту назад опирались, и бросилась мне на грудь, как будто ее в это мгновение настигла пуля.
Почти десять недель ей понадобилось, чтобы решиться на этот поступок, и что самое удивительное — я ее не оттолкнул. Теперь, когда Софи нет в живых, а я не верю больше в чудеса, мне отрадно думать, что хоть один раз я поцеловал те губы и те жесткие волосы. Эта женщина для меня подобна покоренной стране, в которую я так и не вошел, и все-таки я точно помню, какого вкуса была в тот день ее теплая слюна и как пахла ее живая кожа. Если я и мог когда-либо полюбить Софи, просто полюбить влечением плоти и сердца, то именно в ту минуту, когда мы с ней оба обрели невинность заново родившихся. Я чувствовал всем телом ее трепет, и ни одна из прежних встреч с проститутками или случайными женщинами не подготовила меня к этой неистовой, к этой чудовищной нежности. Ее тело, льнущее и в то же время напрягшееся от восторга как струна, было тяжело в моих руках — такой же непостижимой тяжестью навалилась бы земля, если бы несколькими часами раньше я ушел в небытие. Не знаю точно, в какой момент блаженство сменилось гадливостью, пробудив во мне воспоминание о морской звезде, которую мама когда-то насильно вложила мне в руку на пляже в Шевенингене, — я тогда забился в припадке, повергнув в панику всех купальщиков. Я отпрянул от Софи с яростью, слишком жестокой по отношению к этому телу, которое счастье сделало беззащитным. Софи открыла глаза (они были закрыты) и, наверное, прочла на моем лице нечто более непереносимое, чем ненависть или ужас, потому что попятилась, заслонилась согнутым локтем, как ребенок, получивший затрещину, и это был последний раз, когда она при мне заплакала. Я еще дважды виделся с Софи наедине, прежде чем все свершилось. Но с того вечера все было так, будто один из нас уже умер: я — по отношению к ней, или она — в той части своего «я», которая, полюбив, доверилась мне.