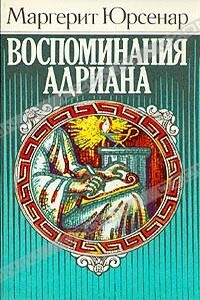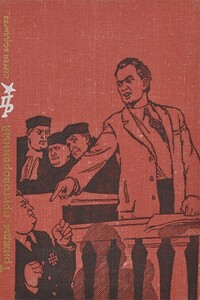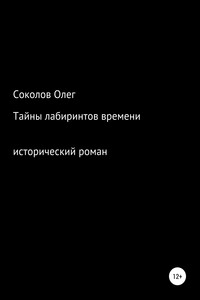Последняя милость | страница 24
Однажды ночью (все мои воспоминания о Софи связаны с ночной темнотой, кроме последнего, окрашенного белесым рассветом), так вот, ночью, когда нас бомбили с воздуха, я заметил прямоугольник света над балконом Софи. Воздушные бомбардировки до сих пор были редки в нашей болотной войне; впервые в Кратовице смерть низвергалась с небес. Нельзя было допустить, чтобы Софи вздумала навлечь опасность не только на себя одну, но и на своих родных, да и на всех нас. Она жила на третьем этаже в правом крыле; дверь была закрыта, но не заперта. Софи сидела за столом в круге света от большой керосиновой лампы. В раме открытой балконной двери застыл пейзаж ясной и морозной ночи. Сражаясь с разбухшими от недавних осенних дождей ставнями, я вспомнил, как приходилось наспех забивать окна вечерами, когда налетала гроза, в гостиницах на горных курортах в пору моего далекого детства. Софи, угрюмо поджав губы, наблюдала за моими усилиями, Наконец она произнесла:
— Эрик, что вам с того, что я умру?
Я ненавидел жеманные нотки, появившиеся в ее хрипловатом голосе с тех пор, как она стала строить из себя девушку. Взрыв бомбы избавил меня от необходимости отвечать. Рвануло на востоке, где-то у пруда, и мне подумалось, что гроза, слава богу, удаляется. Назавтра я узнал, что снаряд упал у самой воды, и скошенные камыши еще несколько дней плавали на поверхности вперемешку со всплывшими белым брюхом кверху рыбами и обломками разбитого ялика
— Да, — продолжала она медленно, тоном человека, пытающегося разобраться в себе, — я боюсь. Как подумаю, даже странно. Ведь мне должно быть все равно, правда?
— Воля ваша, Софи, — отозвался я язвительно, — но несчастная старуха живет в комнате в двух шагах отсюда. И Конрад...
— О! Конрад! — проговорила она с ноткой бесконечной усталости и поднялась, обеими руками опираясь о стол, как инвалид, которому страшно оторваться от своего кресла.
В голосе ее было столько равнодушия к судьбе брата, что у меня мелькнула мысль, не возненавидела ли она его. Но она просто дошла до той степени отупения, когда уже все безразлично, и перестала тревожиться за жизнь своих родных, равно как и восхищаться Лениным.
— Я часто думаю, — сказала Софи, приблизившись ко мне, — что это плохо — не бояться. Но если бы я была счастлива, — добавила она, вдруг снова обретя тот самый голос, грубоватый и ласковый одновременно, который всегда волновал меня, как волнуют низкие ноты виолончели, — мне кажется, тогда было бы не страшно умереть. Пять минут счастья — это было бы как знак, посланный мне Богом. А вы счастливы, Эрик?