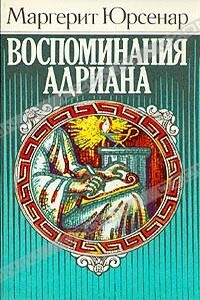Как текучая вода | страница 40
По-видимому, Валентина (я говорю «по-видимому», потому что поступки персонажей должны, на мой взгляд, оставаться порой необъяснимыми даже для автора: такова цена их свободы) с самого начала догадывается о том, что ее дети любят друг друга, но не принимает никаких мер, ибо знает: эта любовь неугасима. «Что бы ни случилось, вы не должны ненавидеть друг друга». Умирая, она предостерегает их от греховной страсти, которая сразу после утоления обернется ненавистью, обидой или, что еще хуже, досадливым безразличием. Но они избегнут этой беды, обретя счастье и приняв муку: Мигель уйдет в смерть, Анна — в неиссякаемую верность. Социальное понятие «преступление» и христианское понятие «грех» расплавятся в этом пламени, которое будет гореть всю жизнь.
«Anna, soror...» была написана за несколько недель весной 1925 года, во время пребывания в Неаполе и сразу после возвращения оттуда; возможно, именно этим объясняется то, что любовная связь брата и сестры возникает и завершается на Страстной неделе. В Неаполе меня больше всего поразили не шедевры античного искусства в музеях и не фрески на вилле Мистерий в Помпеях, которые я тогда полюбила на всю жизнь, а сутолока и оживление в бедных кварталах и еще суровая красота и поблекшее великолепие церквей, иные из которых впоследствии серьезно пострадали или были полностью разрушены во время воздушных налетов 1944 года, как, например, Сан Джованни ди Маре, где Анна открывает гроб Мигеля. Я посетила замок Святого Эльма, где жили мои герои, и расположенный рядом монастырь, где доживал свой век дон Альваро. Я побывала в маленьких нищих деревнях Базиликаты (в такой деревне находился не то господский, не то крестьянский дом, куда Валентина с детьми приехали на время сбора винограда), а развалины, которые Мигель видит то ли во сне, то ли наяву, — это, очевидно, развалины Пестума. Никогда еще романтический вымысел не вдохновлялся так непосредственно теми местами, где происходило действие.
Работая над «Anna, soror...», я впервые насладилась преимуществом романиста — возможностью целиком раствориться в своих героях или позволить им завладеть собой. В эти недели я вела себя как обычно, общалась с людьми, но на самом деле я жила внутри этих двух тел и двух душ, будучи попеременно то Анной, то Мигелем, невзирая на то что они разного пола; думаю, подобное же безразличие испытывают все авторы по отношению к своим персонажам[13], и нет ничего удивительного в том, что мужчина способен в совершенстве описать чувства женщины, — как Шекспир описывает чувства Джульетты, Расин — Роксаны и Федры, Толстой — Анны Карениной (читатель, впрочем, уже и не удивляется: привык), или — более редкий случай — в том, что женщина способна правдиво изобразить мужчину с его мужской логикой: таков Гэндзи у Мурасаки, Рочестер у Бронте или Йёста Берлинг у Сельмы Лагерлеф. При таком вживании в образ героя перестают ощущаться и другие различия. Мне было тогда двадцать два года, как Анне в разгар страсти, но для меня не составляло никакого труда превратиться в утомленную жизнью, постаревшую Анну или в дона Альваро на склоне лет. Мой опыт чувственной любви был в то время весьма невелик, страсть мне еще только предстояло испытать, но любовь Анны и Мигеля пылала во мне, как костер. Думается, объяснение тут простое: все это уже было тысячу раз прожито и пережито нашими предками, которых мы несем в себе, как и тысячи существ, которым еще только предстоит появиться на свет. Но тогда снова и снова возникает вопрос: почему из бесчисленного множества частиц, скрытых в душе каждого из нас, всплывают на поверхность именно эти, а не другие? В то время я была не так обременена собственными эмоциями и житейскими заботами, как сегодня; возможно, поэтому мне было легче раствориться в героях, которых я выдумала, или считала, что выдумала.