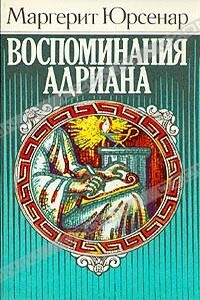Как текучая вода | страница 39
Если не считать «Африканской исповеди», в которой автор словно бы хочет дать нам понять, что ситуации, считающиеся необычными и абсолютно недопустимыми, на самом деле вполне обыденны, то в сюжетах об инцесте преобладают две темы: во-первых, союз двух исключительных существ, объединенных общей кровью, отделенных от других людей своими выдающимися достоинствами, и, во-вторых, заблуждение разума и чувств, приводящее к нарушению закона. Первая из этих тем присутствует в «Anna, soror...»: двое детей живут в относительной изоляции, которая после смерти матери становится абсолютной; вторая — нет. Здесь брат и сестра преисполнены неистовым благочестием эпохи Контрреформации, и бунтарские порывы им совершенно чужды. Их любовь возникает и развивается среди статуй святых и апостолов, оплакивающих Христа, среди скорбящих мадонн и мучеников, «поющих не устами, а отверстыми ранами», в сумрачных, сверкающих золотом интерьерах церквей: это для них и привычное окружение их детства, и последнее прибежище. Их взаимная страсть слишком сильна, чтобы не достичь вершины, но, несмотря на долгую душевную борьбу, предшествующую грехопадению, они воспринимают его как безмерное счастье и не ощущают ни малейшего раскаяния. Один только Мигель сердцем понимает: такая радость возможна лишь при условии, что за нее заплатишь сполна. Его почти добровольная смерть на королевской галере будет заранее обещанным искуплением, которое позволит ему во время праздничной мессы испытать чистое, незамутненное укорами совести ликование. Анна же всю оставшуюся жизнь будет страдать опять-таки не от раскаяния, а от безутешного горя. Даже в старости она все еще будет верна своему греховному чувству — и в то же время будет уповать на Бога.
Портрет Валентины написан другими красками. Эта женщина, проникнутая мистицизмом скорее платоновским, нежели христианским, оказывает, сама того не зная, определенное влияние на страстные натуры своих детей; сквозь их душевные бури она доносит до них частицу своей умиротворенности. В моем творчестве (если только мне дозволено так выразиться) эта безмятежная Валентина видится мне первым образом идеальной женщины, какую я часто представляла себе в мечтах: любящей и в то же время самодостаточной, пассивной не от малодушия, а от мудрости; позднее я попыталась придать эти черты Монике в «Алексисе», Плотине в «Записках Адриана» и, более обобщенно, Фрошо, которая дает убежище на неделю Зенону в «Философском камне». Если я взялась здесь перечислять моих героинь, то потому, что в тех книгах, где, по мнению критиков, я уделила недостаточно внимания женщинам, на самом деле я в значительной мере воплотила мой идеал человека именно в женских образах.