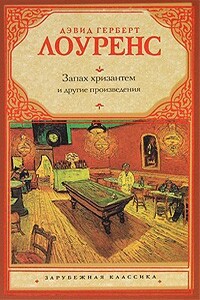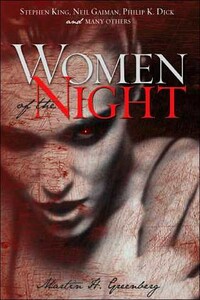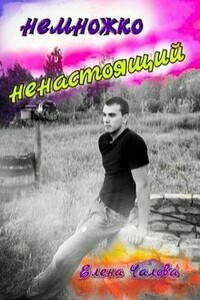Счастливые привидения | страница 26
Она ответила быстрым смешком.
— Наверно, да. Но только желаний у меня много.
— Вот и мне бы так, — проговорил он, неожиданно помрачнев.
Она взяла его за руку в порыве любви.
Рука об руку они стали спускаться вниз по склону, туда, где светили огни; и ослепительно сверкавший Лондон становился все ближе — похожий на чудо.
— Знаете, — проговорил он и вдруг умолк.
— Не знаю… — с насмешкой отозвалась она.
— А хотите знать? — засмеялся он.
— Да, потому что нельзя обрести покой, не поняв…
— Не поняв что? — резко переспросил Куттс, зная, что Уинифред имела в виду то положение, в котором они оказались.
— Как разрешить разлад, — проговорила она, не пожелав ответить прямо. Куттсу хотелось бы услышать: «Чего вы хотите от меня».
— Как всегда, туманный символизм.
— В самом тумане нет символов, — ответила она, и в ее голосе прозвучали металлические ноты, как всегда, когда она бывала недовольна. — Символы — это свечи, разгоняющие туман.
— В моем тумане уж лучше без свечей. Я сам туман, а? Как вам? Вот задую вашу свечу, и тогда вы разглядите меня получше. А то ваши слова-свечи, ваши символы и все прочее заводят вас еще дальше туда, куда не надо. А я предпочитаю брести вслепую, повинуясь инстинкту, как мотылек, который прилетает и садится на коробку, из которой не может выбраться его подружка.
— Итак, вы летите на ignis fatuus?[10]
— Наверно, потому что, когда я не лукавлю и приближаюсь к вам, вы отступаете. А когда я перестаю томно вздыхать, вы тут как тут, летите прямо мне в рот.
— Очень интересный символ, — с издевкой произнесла Уинифред.
Он в самом деле ненавидел ее. И она ненавидела его. Тем не менее, шагая в темноте, они крепко держались за руки.
— А мы совсем не изменились за год, — со смехом проговорил Куттс, ненавидя ее за свой смех.
Когда перед «Лебедем и головой сахара» они сели в трамвай, она пошла наверх, несмотря на сильный ветер. Они уселись рядом, касаясь друг друга плечами, но за все время, пока ехали под круглыми фонарями, не произнесли ни звука.
Пройдя по темной, засаженной деревьями улице, оба остановились в нерешительности у ведущих к небольшому дому каменных ворот. Из сада на улицу тянуло ветки миндальное дерево с набухшими, слишком рано в этом году, почками.
Словно театральная декорация, оно блестело в свете фонарей. Он отломил веточку.
— Я никогда не забывал это дерево, — проговорил он, — не забывал, как чувствовал себя виноватым, когда оно все блестело и было таким живым ночью, при искусственном освещении. Мне казалось, что оно уставало от этого света.