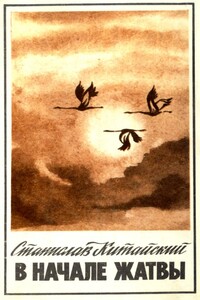В начале жатвы | страница 67
Этот вопрос начинает раздражать Филиппушку. Ему хочется ответить на него зло, с вызовом, а отвечать так некому: память ведь не человек, не кошка какая, даже не предмет какой, ее вроде как и не существует — кому крикнешь? Ты тут спокойно отвечай, почему стряслось такое.
Почему?
Может, потому, что уж шибко часто говорили Филиппушке: «забудь» — и он забывал?.. Заплачешь мальчонкой по теплу материнской руки — нету ее, забудь! Напомнишь хозяину про должок за пастьбу — а ты не помни, забудь. Так и пошло, и пошло. И потом уже: примут на сходе какое решение — выполняй, Филиппушка, — а назавтра повернут по-другому — и забудь про старое.
И он забывал, что делал и говорил вчера, позавчера, год назад. Забывать все начисто, наглухо сделалось не только привычкой для него, но и потребностью, настоящей необходимостью. Жизнь его измерялась не годами, не цепочкой дней, где каждое звено с другим сцеплено, а промежутками от приказа до приказа. И это было правильно: станешь за старое цепляться — остановишься, колодой ляжешь на общем пути. Тогда отбросят тебя подальше и не взглянут, в какую сторону — не мешай! Людям надо было торопиться. События захлестывали одно другое, опережали время, круговертели февральской степной метелью, бушевали полымем — тут и ученый кто не разберется, не запомнит ничего.
А дома — что дома? — дома и вовсе ни хрена для помину не подыщешь, одни свары да слезливые драки — кому охота такое помнить? — слава богу, что ушло.
Нет, ерунда это — воспоминания. Врут люди про пеленки в последний час. Нету пеленок. Ничего нету. Да и с чего он взял этот «последний час»? Вон и трясти перестало, и не болит ничего. Голова мутится — так понятно: недосып, пройдет. И что рука онемела, тоже ерунда — иной раз так отлежишь ногу или руку, что она совсем нечувствительна, а тут все-таки гнется.
Немного успокоившись, Филиппушка прилег, вернее, просто осторожно свалился, как сидел, — не разгибаясь, продолжая нянчить руку, на комковатую, в розовых блеклых цветочках, подушку, подтянул на кровать ноги и притих, затаился. Перед открытыми глазами его мельтешили, петляли какие-то белые светящиеся точки, противные, будто живые, разраставшиеся в радужные мыльные пузыри и тут же исчезавшие, чтобы уступить место новым.
Несколько раз он засыпал, но как только сон сладким бессилием заволакивал сознание, на тело тут же наваливалось нечто тяжелое, бесформенное и начинало душить, вдавливать Филиппушку в неуютную, вроде даже как липкую постель, и он со стоном просыпался.