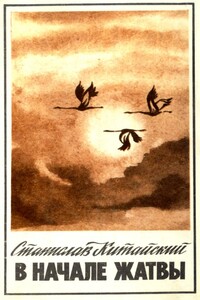В начале жатвы | страница 66
Он знал, что в таких случаях надо вспоминать, как это делают умирающие в кино, всю жизнь, от пеленок до самого последнего момента, и постарался сделать то же самое, но поскольку он никогда не любил ничего вспоминать, то и забыл все на свете, и теперь ничего из прошлого не приходило в голову. Вставали в памяти гладкие полевые стежки, картинки неба с легкими прозрачными облачками, перекаты на реке — и все. Ничего больше! И еще сам виделся при этом большим и грозным, каким привык видеть себя в мечтаниях.
Постой, постой! Но ведь была же и всамделишная жизнь! Это ж хоть кому скажи — семьдесят шесть лет! — так напугается. Почитай, сто лет. Век целый. Скажи-ка: «сто лет назад» — так это ж при царе Горохе! За это время целые государства родились, умерли и забыться успели. Как говорится, пепел истории. Все, что есть на земле, родилось уже при нем, Филиппушке, — и деревья, и избы, и самолеты, и электричество, и дивные неведомые города, что показывают в кинофильмах, да и само кино, сообразилось давно ли... А вспоминать нечего. Как же так? Где он был все эти годы? Почему ничего не запомнил? Неужто все вот так — не помнят ничего, и все это выдумки — про предсмертные пеленки?
Вспомни же, вспомни хоть что-нибудь! — уговаривал себя Филиппушка. — Не примечтай, а вспомни. По-настоящему вспомни...
Но вспоминалась только утомительная сегодняшняя рыбалка, зеленые пивные бутылки, похмельный вид управляющего и невозмутимая рожа механика Суровцева, человека вечного, потому как здоровый и печалей никаких.
И вдруг Филиппушка обрадовался — вспомнил! Молоденьким подпаском сидит он на берегу речки и вырезает из тальника длинные свистули. Обивает черешком ножа сочную кору, снимает ее зеленой трубкой со скользкой палочки, вырезает в трубке дырки, укорачивает палочку, чтобы осталось в снова надетой трубке полое место, сверху затыкает трубку заготовленным пенечком и отдает готовую свистулю — звонкую, разноголосую — ребятишкам, что обсели его вокруг, как опята, рыжие и веснушчатые. И оттого, что свистули делает он не себе, а вот им, и оттого, что они радуются чистым звукам, выдуваемым из свистуль, и смеются не над Филиппушкой, а над своей живой и дикой музыкой, ему хорошо и весело. И он тоже смеется легким, освобождающим от всего грудным смехом. А ребятишки свистят, свистят...
А при чем тут свист? — будто за удила вздергивает себя Филиппушка. — Тут жизнь прошла. Жизнь — это понимать надо. Мало ли переворочал всего. Почему же все другое забылось, все, кроме этого радостного свиста?