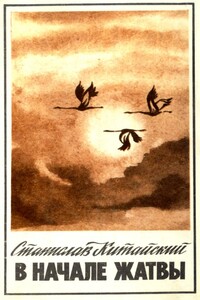В начале жатвы | страница 32
Колюхову сейчас кажется, что не случись как случилось, он был бы счастлив совсем: и нелюбимая жена любимой сделалась бы, и сам при настоящем деле прожил бы.
Он вдруг заметил, что темнота рассеялась, стало видно избы и громады деревьев, и легкий туман внизу, за огородами,— должно, ручей парил. Это выбралась из облаков на чистое луна. Ему сделалось хорошо, как бывало в детстве, и показалось, что он чует запах свежей пшеницы, и вспомнил — завтра в Сычовке опять будет жатва. Слово «уборка» ему не нравилось, и он повторил про себя: жатва будет, жатва.
Ему захотелось, чтобы кто из мужиков, лучше всего Петро, вышел сюда и поговорил с ним. Но в избе зычно ревел баян — сосед угощения отрабатывал, — взвизгивали в частушках бабьи голоса, каблуки грохотали о гулкий над подполом пол — веселились. Ну и пускай — их дело молодое.
Колюхов спохватился, что Петро ему и вовсе чужой, что он только муж племянницы и никакого интереса к нему, приезжему, иметь не может. Ему вспомнились оба сына, погибшие на войне, лица которых он позабыл и никак не мог представить, и только остро жалел, что их сейчас нету и что им так и не довелось увидеть Сычовки, про которую любили вспоминать с матерью в досужие зимние вечера. Всплыла в памяти дочь, отрезанный ломоть, которая и будь здесь, ничего не облегчила бы: они и живя в одном городе по году не виделись, а увидятся — поговорить не о чем. Неласковая баба получилась из нее...
Он сидел долго, потом поднялся и пошел в избу.
Веселье уже было невеселым, накал остыл. Майя Васильевна позевывала в уголке. Соседка что-то шипела пьяному мужу. Катерина с Анной толковали о нарядах, меряя друг у дружки круглые талии. Братья спорили о политике, тыкая окурками в тарелки. Петро сидел у окна, на Колюховом месте, совсем трезвый, и скучно тянул красивую песню:
Стеной стоит пшеница золотая...
Его никто не поддерживал. Колюхов подсел к нему послушать, но Петро замолчал.
V
Не спалось Филиппушке. Хоть убейся, не идет сон и все. Сперва этот паразитский кулак свалился на голову, потом Лександра приперлась. Зачем, спрашивается? Натрепала тут, набаламутила. Настю зачем-то вспомнила. Детьми кольнула. И ушла. А ты не спи.
Настя, она хоть и неприветливая была, затаенная какая-то, молчунья, а жить с ней лучше, не то что с Мотрей, первой женой. Та очень грубая была и на руку тяжелая. Чуть что, против нее хоть пушку выкатывай. Да она и пушку своротила бы — туша вон какая! Когда она ушла от него, он не шибко расстраивался, так и не знает, куда пропала, была и сплыла: баба с возу — коню легче. Прожил с ней, почитай, десять лет — как десять лет на каторге просидел: все не так, все не по ней, кулачища — сложит кукиш — чайник и чайник. Сбежала, ну и беги. А когда в нелегком послевоенном году умерла Настя, Филиппушка загоревал: старость накатывала, найти кого — уже не найдешь, дочерей, сельсовет определил в ФЗО, — одному придется скучать. Но скучал Филиппушка недолго, вернее, совсем не скучал. К нему легко и просто вернулось почти забытое состояние ни от кого не зависимой свободы, какое испытывал, будучи подпаском.