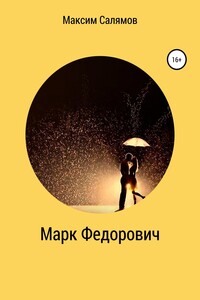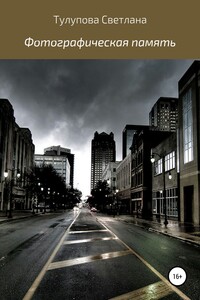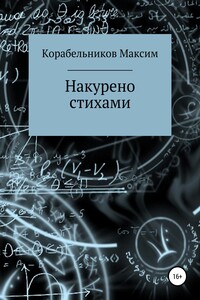Незамеченное поколение | страница 172
Фондаминский единственный из всех отцов чувствовал зарождение этой идеи, делавшей возможной встречу между Монпарнассом и Новым Градом.
Интерес к общественным вопросам, усиливаемый чувством беспокойства перед надвигавшимися грозными событиями, был так силен у многих участников «Круга», что наряду с собраниями, посвященными литературным и философским темам, стали возможны собрания политические. Постепенно образовался как бы политический отдел «Круга», призванный по замыслу Фондаминского стать зачатком нового ордена. К участию в этих политических собраниях он привлек еще группу молодых монархистов-легитимистов, отколовшихся от младоросской партии и издававших свой собственный журнал «Русский временник», достойный особого внимания, так как этот монархический журнал страстно защищал тот самый «демолиберализм», от которого с таким презрением отворачивались и евразийцы, и солидаристы, и все пореволюционные течения.
Верность принципу легитимной монархии сочеталась в идеологии «Русского временника» с устремлениями к идеалам русской интеллигенции и с решительным осуждением тоталитарных режимов.
В статье от редакции («Русский временник», № 1, 1938 г.) говорилось, что для понимания глубокого духовного и культурного кризиса, переживаемого всем миром, прежде всего нужно поставить проблему человека:
«Сам человек, его духовная сущность и духовная свобода стоят в нашу эпоху перед большими опасностями и соблазнами. Всюду ведется и в дальнейшем еще предстоит немалая борьба за самые основные качества и права человека.
По новому при этом ставятся и религиозные проблемы. Основная ценность человека — его духовная сущность, неразрывно связана с христианством, так что общий духовный и культурный кризис человечества является в то же время и кризисом христианского сознания; оно не может согласиться с умалением человека и потому неизбежным является его конфликт с тоталитарными режимами, покушающимися на всего человека без остатка».
Не только эта защита человека отличала «Русский временник» от обычного правого монархизма. Журнал утверждал, что монархия вполне совместима с демократией, с которой по существу у нее нет противоречия, но не совместима с тоталитарной однопартийной диктатурой.
В № 2 Л. Н. Горбов говорит:
«…определяя в основном нашу политическую позицию, мы не можем не отметить, что мы отнюдь не противопоставляем монархию демократии. Это, конечно, совершенно естественно, и если такое противоположение и имеет в некоторых кругах эмиграции силу, то в этом кроется очевидное недоразумение. Монархия, так же как и республика, может быть демократической, и республика, так же как и монархия, может носить полицейский и произвольный характер. Мы думаем, что если в России должна быть монархия, то только демократическая. Мы, стало быть, относим себя к числу монархистов-демократов. В этой формуле мы видим наилучшее из возможных сочетаний специально русских исторических и национальных традиций с традициями, если так можно выразиться, общеимперскими. Мы, кроме того, усматриваем в формуле демократической монархии возможности соединения традиционного наследования верховной русской «власти-чести» с наиболее широ-: кой политической и гражданской «свободой».