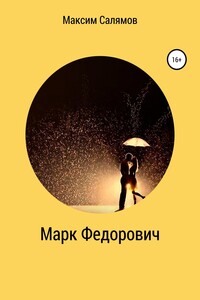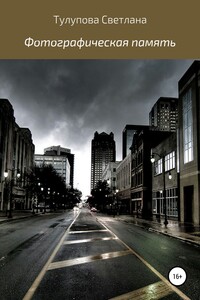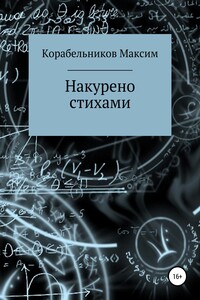Незамеченное поколение | страница 170
«Есть древняя легенда, которую все знают, — говорил Адамович, — Бог не создал мир, не хотел создавать его. Мир вырвался к бытию против его воли». Отсюда «в душу закрадывается соблазн: не надо ли «погасить» мир, то есть на это работать».
Гностический соблазн имел власть и над душой другого «идеолога» Монпарнасса, Б. Поплавского. Он часто взволнованно и восхищенно обсуждал утверждения Маркиона, что добрый, любящий нас Бог, Отец наш Небесный, о котором говорил Христос, вовсе не был ветхозаветным, сотворившим землю, гневным, ревнивым и мстительным Богом Судией и Богом воинств. Увлечение гностикой отразилось и во многих стихах Поплавского. В «Снежном часе» он пишет:
На Монпарнассе никто, насколько мне известно, сознательно не следовал известной теории, что русское народное православие восприняло через Богумильскую ересь маркионовское понимание христианства и что именно это определило все развитие русской культуры, начиная с былины об Илье Муромце и сказания о граде Китеже и кончая творчеством величайших русских гениев 19-го века. И все-таки христианское вдохновение русской литературы часто понималось на Монпарнассе именно в маркионовском духе.
В век, когда в христианстве обычно еще видели иудаизм, только ставший вселенским, и когда благочестие многих христиан уживалось с верностью законнической традиции, Маркион учил о противоположности Евангелия Закону, противоположности, как вспышками молнии, освещаемой многократным повторением слов: «Вы слышали, что было сказано древним… а я говорю вам…».
Но, почувствовав сердцем, что сущность христианства в откровении мистической любви, Маркион не понял огненной природы этой милосердной и жертвенной любви, зовущей, в отличие от всех предшествующих форм мистицизма, не к созерцанию и личному потустороннему спасению, а к творческому, преображающему мир действию. Значение этого подготовленного еврейскими пророками перехода от созерцания к действию, не дошло до внимания Маркиона, и именно в этом сказалась ограниченность его религиозного гения: несмотря на глубокую интуицую божественности и абсолютной новизны нагорной проповеди он в своем отвержении видимого космоса выпадал из христианства и был близок к тому, что условно можно назвать «вечно буддийской» стадией религиозного опыта.