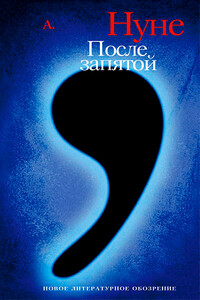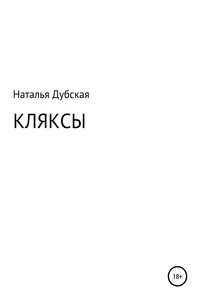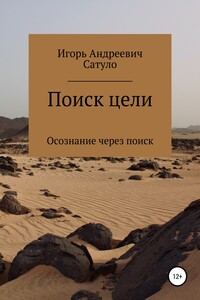Незамеченное поколение | страница 130
Русская литература 19-го века верила, что во всех людях, даже самых страшных и ничтожных, заложена возможность возрождения. Гоголь, Достоевский и Толстой, каждый по-своему, пытались привести тому примеры. В рассказе Толстого «Хозяин и работник» Василий Брехунов, кулак, хищник, на глазах у читателя одним прыжком, «как Хануман», достигает вершины религиозного опыта в то мгновение, когда, забыв о своих замерзающих руках и ногах, о своих деньгах, лавке и доме, о всем, что составляло его поверхностное «я», отдает свою жизнь, чтобы спасти Никиту, в котором прежде видел только «работника», а не такого же человека, как он сам.
Гоголь умер от отчаяния, что у него не получилась метаморфоза Чичикова. Вряд ли можно считать удачей и воспоминания старца Зосимы о том, как его таинственный посетитель поборол дьявола в своем сердце. Рядом с гениальными разговорами Ивана Карамазова эти стилизованные страницы кажутся бледными и слащавыми. Толстой почему-то не любил «Хозяина и работника». (Лично мне это произведение представляется одним из самых замечательных в мировой литературе). Впрочем, пусть это тоже неудача, что из того? В мистическом искусстве никогда не может быть полной удачи — слишком несоизмерим с человеческими словами изображаемый «предмет». Но если бы не было в Гоголе, Достоевском и Толстом безумной жажды, приведшей их к этим «неудачам», то не было бы и того огромного дыхания жизни, которое поддерживает весь мир их творчества, и русская литература не была бы чудом, сравнимым, как это справедливо указывалось, с чудом Греции или готических соборов, со всем самым великим, что было создано людьми.
Помнила ли молодая эмигрантская литература завет русского 19-го века, что нужно в каждом видеть человека и брата? Когда вышла первая книга «Чисел», журнала, по преимуществу, монпарнасского, создалось впечатление, что это попытка воскресить «Аполлон». Непривычное в эмигрантских условиях изящное типографское оформление, статьи по вопросам искусства и отсутствие злободневной публицистики, наконец, имена главных участников, связанных с петербургским «Цехом поэтов» — все подтверждало это впечатление. И вдруг статья Поплавского: «уже становится ясно, что вся грубая красота мира растворяется и тает в единой человеческой слезе, что насилие — грязь и низость, что одна отдавленная заячья лапа важнее Лувра и Пропилей».
Г. П. Федотов был, конечно, прав, когда писал: «перед нами не акмеисты, не Аполлон, не Парнасе, а нечто совершенно иное, может быть, прямо противоположное».