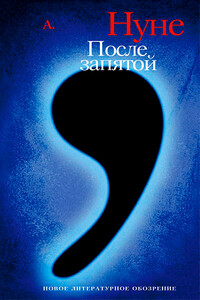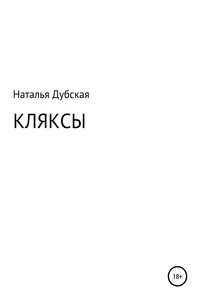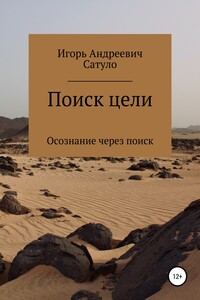Незамеченное поколение | страница 129
Так в новый ассирийский век, далекая от всякой политики молодая эмигрантская литература, как раз своей сосредоточенностью на внутренней жизни, была приведена к страстной защите личности против тотальной коллективизации и тем самым вдруг оказалась в центре борьбы, от исхода которой зависит все будущее человечества.
Набоков выразил эту главную тему эмигрантской литературы с большей силой, чем кто-либо из писателей Монпарнасса. «Приглашение на казнь» — страстное утверждение, что по-настоящему реален только человек, а не «общий мир». Цинциннату предлагается выбор между двумя видами уничтожения: или перестать быть самим собою, перестать быть человеком, личным существом, или смертная казнь. Он выбирает казнь. В этом выборе и в мужестве отчаянья, с каким Цинциннат борется за свою человеческую подлинность — все значение романа. Цинциннату открылось «я есмь». Правда, может показаться, что в своем героическом самоутверждении он не понял, что «я есмь» значит, что и все другие люди «суть». Он не пытается разглядеть в каждом из окружающих его обобществленных персонажей такого же человека, как он сам. Это как будто придает его монологам смущающий привкус солипсизма (крайнего индивидуализма). Но это только на первый взгляд так кажется и было бы неосторожно пуститься тут в демагогию. В действительности цинциннатовское утверждение своего бытия «suib aeternitatis specie» (с точки зрения вечности) не имеет ничего общего с эгоистическим себялюбием, и, сколько бы Набоков ни твердил о своем безбожьи, цинциннатовское утверждение рождается из вечного устремления души к мистическому соединению с чаемым абсолютным бытием и, тем самым, с божественной любовью. Оно должно, поэтому, вести к любви к людям с такой же последовательностью, с какой себялюбие, по бессмертному выражению Ремизова, делает человека человеку бревном. Тут нужно еще раз напомнить — ведь Цинциннат имеет дело не с живыми людьми, а с аллегориями социальных инерций, уничтожающих личность, символическими масками, бездушно разыгрывающими на тоталитарном кукольном театре бредовую, вечно повторяющуюся, пошлую и смертельную комедию. Когда же герой Набокова — («Дар» и «Другие берега») живет среди близких и дорогих ему человеческих существ, то именно в чувстве любви к ним глубже и ощутимее открывается ему трагическая действительность его собственной жизни:
«Когда этот замедленный и беззвучный взрыв любви происходит во мне, разворачивая свои тающие края и обволакивая меня сознанием чего-то значительно более настоящего, нетленного и мощного, чем весь набор вещества и энергии в любом космосе, тогда я мысленно должен себя ущипнуть, не спит ли мой разум. Я должен проделать молниеносный инвентарь мира, сделать все пространство и время соучастниками в моем смертном чувстве любви, дабы, как боль, смертность унять и помочь себе в борьбе с глупостью и ужасом этого унизительного положения, в котором я, человек, мог развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования».