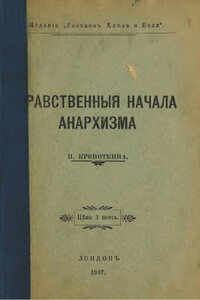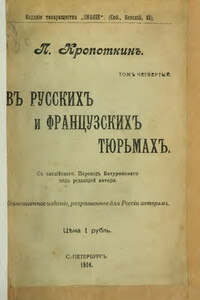Идеалы и действительность в русской литературе | страница 46
Он дебютировал в 1829 году небольшими рассказами, изображавшими деревенскую жизнь Малороссии. «Вечера на хуторе близ Диканьки», за которыми вскоре последовала другая серия рассказов, озаглавленная «Миргород», создали ему литературную известность и ввели его в кружок Жуковского и Пушкина. Оба поэта признали гений Гоголя и приняли его с распростертыми объятиями.
Малороссия значительно разнится от центральных частей империи, т. е. от губерний, лежащих вокруг Москвы и известных под именем Великороссии. Малороссия лежит южнее, а все южное всегда имеет особую привлекательность для северян. Селения Малороссии не расположены улицами, как в Великороссии, а их выбеленные хаты разбросаны, как в Западной Европе, и окружены живописными садиками. Более мягкий климат, теплые ночи, музыкальный язык, красота населения, которое, вероятно, представляет помесь южнославянской с турецкой и польской кровью, живописная одежда и лирические песни, — все это делает Малороссию чрезвычайно привлекательной в глазах великороссов. Кроме того, жизнь в малорусских селениях носит характер более поэтический, чем в великорусских деревнях. В Малороссии существует большая свобода в отношениях между молодыми людьми обоих полов: девушки и юноши могут свободно встречаться до замужества; затворничество женщин, явившееся результатом византийских влияний на Москву, не существовало в Малороссии, в которой преобладало влияние Польши. Малороссы сохранили при этом многочисленные предания, эпические поэмы и песни, относящиеся к тому времени, когда они были вольными казаками, сражаясь с поляками на севере и турками на юге. Им приходилось защищать православие от этих двух врагов, и до сих пор они глубоко привязаны к православной церкви; но в малорусских деревнях нет той страсти к богословским спорам по поводу буквы Писания, а не духа, которая так характерна для великорусских раскольников. Религия малороссов также имеет более поэтический характер.
Малорусский язык, по сравнению с великорусским, более мелодичен, и в настоящее время наблюдается серьезное движение, имеющее целью литературное развитие этого языка; но все же он находится в эволюционной стадии даже теперь, а потому Гоголь поступил очень разумно, начавши писать на великорусском, т. е. примкнув к языку Жуковского, Пушкина и Лермонтова. Таким образом, мы имеем в Гоголе род звена, соединяющего обе национальности.
Дать понять о юморе и остроумии рассказов Гоголя из малорусской жизни, не приводя из них целых страниц, было бы совершенно невозможно. Это — добросердечный смех человека молодого, наслаждающегося полнотой жизни, который сам не может удержаться от смеха, глядя на комические положения, в которые он ставит своих героев: деревенского дьячка, богатого крестьянина, деревенскую кокетку или кузнеца. Он переполнен счастьем; ни одно облачко еще не омрачает его жизнерадостности. Но нужно заметить, что комизм рисуемых им типов не является результатом его поэтического каприза: напротив, Гоголь — скрупулезный реалист. Каждый крестьянин, каждый дьячок его повестей — взяты из живой действительности, и в этом отношении реализм Гоголя носит почти этнографический характер, — что не мешает ему в то же время иметь яркую поэтическую окраску. Все суеверия деревенской жизни в ночь под Рождество или в Иванову ночь, когда шаловливые духи имеют свободу вплоть до крика петухов, — проходят пред читателем, и все это переполнено тем заразительным остроумием, которое присуще малороссу. Лишь позднее склонность Гоголя к комизму кристаллизовалась в , что можно по справедливости назвать «юмором», т. е. контрастом между комической обстановкой и печальной сущностью жизни, о котором сам Гоголь сказал, что ему дано «сквозь видимый смех источать невидимые, незримые миру, слезы».