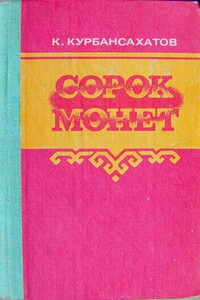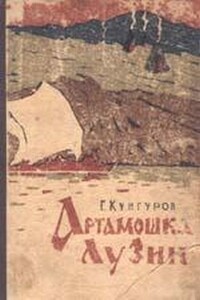Блаженные шуты | страница 80
Но она меня уже не слышала. Бурные события последних дней, темнота склепа, эксгумация, панихида и теперь это очередное волнующее происшествие — все это не могло не сказаться на болезненном воображении Альфонсины, которую всякие страсти занимали больше, чем кого бы то ни было. К тому же вчера и Маргерита заворожила всех своими демоническими видениями…
— Ты чувствуешь? — зловеще выдохнула Альфонсина.
— Что?
— Тс-с-с! — многозначительно зашипела она. — Будто холодом повеяло!
— Ничего я не чувствую. — Я с трудом поднялась на ноги. — Послушай, дай мне руку!
Альфонсина вздрогнула от моего прикосновения:
— Ты уже давно здесь, в подземелье. Что это было?
— Ничего. Уверяю тебя. Я лежала в беспамятстве.
— А ты не почувствовала… присутствие!
— Нет.
Несколько сестер сверху пялились вниз в крипту, лица расплывались в полумраке.
Пальцы Альфонсины в моей руке были холодны, как лед. Она смотрела куда-то мимо меня, на что-то за моей спиной. С упавшим сердцем я угадала признаки приближающегося недуга.
— Слушай, Альфонсина… — начала я.
— Я чувствую! — Ее всю трясло. — Он прошел прямо через меня. Этот холод. Холод!
— Ладно, ладно, — согласилась я, только чтобы сдвинуть ее с места. — Может, что-то и было. Но ничего особенного. Пошли!
Я оборвала ее горячечные фантазии. Альфонсина взглянула обиженно, и мне вдруг стало весело. Бедняжка! Ведь я ей все испортила! После кончины Матушки-настоятельницы впервые за последние пять лет она словно ожила. Ее возбуждают театральные страсти: ей необходимо рвать на себе волосы, хлестать себя плетью, публично каяться. Но за каждое представление приходится расплачиваться. Она кашляет все чаще, глаза горят лихорадочным блеском, и спит почти так же плохо, как и я. Я слышу, как она ворочается в отсеке, рядом с моим, шепчет что-то, то ли молится, то ли негодует, порой скулит и выкрикивает что-то, обычно тихо и одно и то же, как молитву, повторяемую без конца, когда слова уже теряют свой смысл.
— Отец мой… Отец мой…
Я буквально поволокла ее на себе наверх по ступенькам склепа.
Внезапно ее пронзило:
— Матерь Божья! Обет молчания! Епитимья!
Я попыталась заставить ее замолчать. Но было слишком поздно. Нас уже со всех сторон обступили сестры, прикидывавшие, заговаривать с нами или не стоит. Лемерль держался поодаль. Вся эта сцена разыгрывалась явно для него, и он это понимал. Рядом с ним стояла Мать Изабелла, смотрела на нас, слегка приоткрыв рот. Что ж, все разыграно, как по нотам, со злостью подумала я. Она получила как раз то, о чем мечтала.