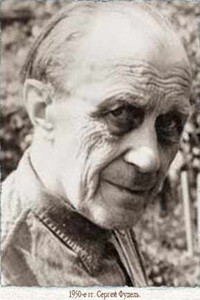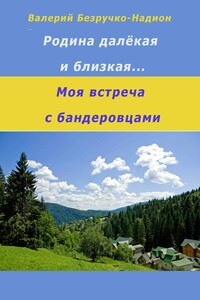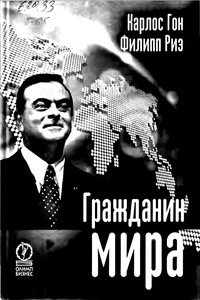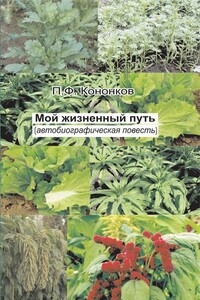Воспоминания | страница 30
Можно ли сохранить все эти книги, живя целиком в Церкви? Или же здесь "кончилась жизнь и началось житие"?
Незадолго до своего священства (наверное, в 1919 году) С.Н. как-то мне сказал: "Нельзя на одной полке держать Пушкина и Макария Великого". У С.Н. был большой талант художественной прозы, я помню его чисто лесковские рассказы, но я помню и то, как в те же годы он говорил: "Мне нельзя писать. У писателя, как сказал Лесков, должны быть все страсти в сборе". И в обоих этих высказываниях звучала мне тогда его сокровенная грусть: Макарий Великий велик, но как же я буду без Пушкина? И вот он, очевидно, решил снять с полки Пушкина, не сняв его с полки души, он решил, что теперь ему будет хорошо, что начнется его "житие", что-то такое, что переживается, а не только пишется по-церковнославянски, - некая тишина отказавшейся от самого дорогого и любимого и все этим отказом приобретшей и умиротворенной души.
Для целиком живущего в вере, наверное, нет разрыва между Церковью и светом мира: и Шопен и Пушкин для него "только отзвук искаженный торжествующих созвучий" (неточная цитата из стихотворения Вл. Соловьева "Милый друг, иль ты не видишь"; 1892. - В.П.). Тем, что он целиком отказывается от зла мира, от всего греха мира, он отказывается не от "отзвуков", хотя бы искаженных, а от всего того, что, обычно сопутствуя отзвукам, мешает слушать всю полноту торжествующих созвучий. Ни истина, ни красота не разрываются в вере, но всякая искра света на темных тропинках мира воспринимается ею как отсвет все того же великого Света, у престола которого она непрестанно стоит. Человек, полный веры, наверное, ничем не жертвует, отходя от мира с тайным вздохом о своей жертве, так как, наоборот, он все приобретает: он становится теперь у самых истоков музыки, слова и красок.
Если священство есть не обретение "сокровища, скрытого в поле", а некая "жертва", то, конечно, тоска о пожертвованном будет неисцелима и воля в конце концов не выдержит завязанного ею узла. Так я воспринимаю вступление С.Н. в священство и его уход из него.
Помню, что в то далекое время, когда он вступал на этот путь, он не один раз говорил мне эту строку стихов, кажется, З. Гиппиус:
Покой и тишь во мне,
Я волей круг свой сузил...
Но плачу я во сне,
Когда слабеет узел!
Все вступление в священство сопровождалось для С.Н. его "плачем во сне" о пожертвованных им отзвуках и отсветах мира.
Я узнал близко С.Н. ранней весной 1917 года, когда он жил один в маленькой комнате, во дворе серых кирпичных корпусов в Обыденском переулке. На небольшой полке среди других книг уже стояли его вышедшие работы: "Вагнер и Россия", "Церковь Невидимого Града", "Цветочки Франциска Ассизского" (его предисловие), "Начальник Тишины", "О церковном соборе", статья о Лермонтове и что-то еще. Икона была не в углу, а над столом: старинное, шитое бисером "Благовещение". Над кроватью висела одна-единствснная картина, акварель, кажется, Машкова: Шатов провожает ночью Ставрогина. Это была бедная лестница двухэтажного провинциального дома, наверху на площадке стоит со свечой Шатов, а Ставрогин спускается в ночь. В этой небольшой акварели был весь "золотой век" русского богоискательства и его великая правда.