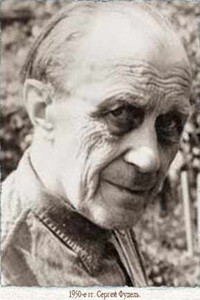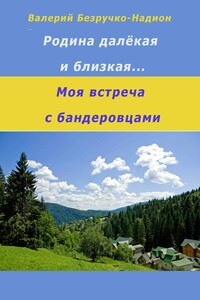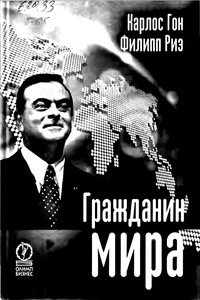Воспоминания | страница 28
Только на такое восприятие Конца как Начала могла всем сердцем откликнуться созидающая вера моего отца.
И умирал он в полном сознании своей смерти именно как момента перехода в "иного бытия вечного начало". За три дня до смерти, лежал в жару, он попросил одну из дочерей почитать ему Псалтирь. "Какую кафизму читать?" - спросила она. "Открой наугад". Она открыла, и, когда прочла до конца, он сказал: "А знаешь, Ниночка, это ведь ты на погребение мне прочла". Это была 17-я кафизма - "блажени непорочные в пути", читаемая на заупокойных службах. Он умер под утро 15/2 октября 1918 года, а накануне вечером причастился и сам громко и внятно произнес всю молитву "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко", глядя неотступно на икону Казанской Божией Матери, писанную в Шамордине, рядом с Оптиной, там, где была его юность у ног старца Амвросия. После этого каждого из своих детей благословил, с каждым простился, каждому улыбнулся. Я, помню, был в соседней комнате, и туда вошла мама и сказала: "Идите, он хочет проститься".
Так надо умирать. И не потому ли его похороны были для нас не то горем, не то праздником?
О нем я мог бы написать еще много, - вот лежат сейчас передо мной пожелтевшие листы его "стихотворений в прозе", его негодующие письма о Вл. Соловьеве, планы его бесед и проповедей, планы и черновики книг: "Записки тюремного священника", "Земля и государство", "Женщина", - выписки, письма к родителям, но все это нужно ли? В отношении внешних фактов главное я, кажется, сказал. Что касается внутреннего, то - "как сердцу высказать себя?"; Как передать его служение пасхальной заутрени, когда он читал слово Златоуста: "Где твое, смерте, жало! где твоя, аде, победа!"
Лет через пять после его смерти, когда у меня в душе уже оскудевало христианство, я, помню, увидел сон, все опять ожививший, как дождь засыхающую землю. Я стою в толпе на паперти нашей Николо-Плотниковской церкви в пасхальную ночь. Отец, освещенный свечами народа, стоит в центре толпы и запевает ирмос пасхального канона: "Утреннюем утреннюю глубоку..."
Проснувшись, я вспомнил слова: "И на сердце человеку не взыдоша, что приготовил Бог любящим Его".
На этом надо было бы мне и кончать свои воспоминания о нем, но как-то не хочется оторваться. Пока пишу, он живой и близкий где-то рядом, и все хочется, как в детстве, поцеловать его сухую родную руку. Мы все, дети, всегда говорили ему "вы", но любили его ужасно.
Когда-то, лет двадцать пять назад, я попытался написать его портрет в стихах.