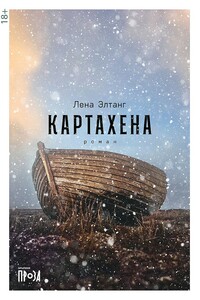Другие барабаны | страница 29
Вот в древних Микенах людей хоронили по всем правилам: рядом клали кинжал, между ног — наконечник стрелы, на грудь — бронзовое шило, в изголовье ставили кубок, а на живот могли положить и зеркало. Допивая последнюю рюмку, я думал о том, что тело тетки уже бросили в печь и сожгли, люди разошлись по домам, а мать поехала на Терейро до Паго встречать нотариуса с завещанием. Удивительно, что в наши убогие времена кто-то еще пишет завещания. Еще удивительнее, что раньше это называли душевной грамотой, а то и духовной. Душа ведь неграмотна по определению.
Я попытался представить, как тетка лежит там, под казенной простынкой, так же тихо, как лежала рядом со мной на тартуской кровати, когда я думал, что она спит, и разглядывал ее сколько хотел. Я был пьян от ночных часов, проведенных с ней, будто пчела, насосавшаяся цветочного сока, я отяжелел, клейкая пыльца облепила мое тело, если бы тетка открыла глаза и откинула простыню, я бы только зевнул и отвернулся. Ну ладно, Хани, ладно, я вру, соврал. В то утро я отдал бы полгода жизни за то, чтобы положить одну ладонь между ее высоких ног, а второй провести по груди и смахнуть простудную испарину. Да только черта с два.
Я держал голову на весу над ее плечом, чтобы она не чувствовала тяжести. Зоя лежала тихо, прикрыв глаза рукой, над ее коленями, согнутыми под простыней, я видел кусок сизых обоев, будто зимнее небо над снежными пиками Кордильеры-Бетики. Через семь лет я увидел эти пики из окна самолета, вспомнил теткины колени и почувствовал, как снежный гребень обвалился в мое горло и не давал продохнуть: теперь я думаю, что впервые испытал приступ угрызений совести. Помню, как сосед-португалец постучал меня по плечу, чтобы я отодвинулся, и стал жадно смотреть вниз, как будто пытался разглядеть лыжников на склоне Муласена.
— Onde a terra se acaba е о mar comeсa, — нараспев произнес он, с трудом отрываясь от окна.
— No entiendo, — я удрученно помотал головой.
— Здесь кончается земля и начинается море, — повторил он на испанском и добавил: Камоэш.
Тетка не любила Камоэнса, она вообще не читала португальцев, объясняя это тем, что língua portuguesa застревает у нее в подъязычии и цепляется за зубы. Бесстыдная ленивая отговорка! Мою русскую рукопись она сунула в ящик стола и забыла там под грудой счетов и журналов. Ей совсем не хотелось ни читать, ни писать, а я бы свихнулся здесь без того и другого. Похоже, этим тюрьма и отличается от смертельной болезни.