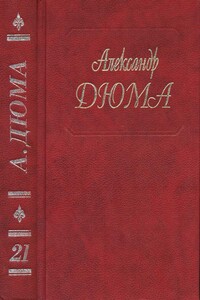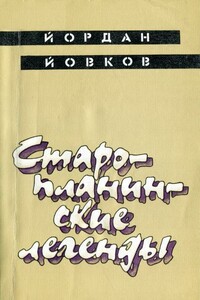Лесная тропа | страница 23
У милой матушки в темных недрах сундука хранилось немало заветных вещиц, единственное назначение которых заключалось в том, чтобы там храниться; в тех редких случаях, когда ей надо было что-то достать из сундука, мы пользовались этим, чтобы тоже сунуть туда головенки. Там лежало ожерелье из бряцающих серебряных пуговиц, связка пряжек, ложечки с длинными черенками, большая серебряная чаша, которой доктор, по преданию, пользовался, когда ему доводилось пускать кровь знатному пациенту; там же хранились два орлиных клюва, несколько мотков золотого галуна и многие другие предметы, таинственно отсвечивающие в темноте. Нам не разрешалось рыться в этих сокровищах, матушка торопилась запереть сундук и уйти. Но порой, когда в верхней спальне, где стояли кровати для гостей и висело праздничное платье, затевалась большая уборка, все проветривалось и чистилось, — матушка, когда бывала в добром расположении духа, охотно показывала какой-нибудь соседке, а также и нам, детям, которые в этих случаях не отходили ни на шаг, укладку с подвенечными платьями, эту своеобразную галерею предков почтенного бюргерского семейства, гордого своей родословной. Платья эти хранились как святыня и при случае показывались гостям. Однако с годами и этот культ отходил в прошлое. Да и в самом деле, что особенного заключалось в каком-то черном фраке, в котором вы венчались, посещали соседей или отправлялись на прогулку, — стоило ли воздавать ему такие почести? Когда матушка извлекала на свет эти негнущиеся, неуклюжие одеяния и заставляла их играть на солнце, мы, дети, упивались их поблекшим великолепием. Бархатные, шелковые, расшитые золотом наряды заманчиво шелестели и потрескивали, точно маня в неведомое. От доктора оставалась его парадная фиолетового бархата пара, отделанная петлицами и золотым шитьем, и к ней черные туфли с бантами и черный берет. Пепельно-серое шелковое платье его нареченной заканчивалось коротким шлейфом, украшенным золотистой каймой и приоткрывавшим лимонно-желтую шелковую подкладку. Не менее примечательна была бабушкина парчовая юбка — она сама по себе стояла стоймя со всеми своими многочисленными складками и большими шелковыми цветами апплике. Что же до батюшкина рыжеватого жениховского сюртука, в котором он — уже на моей памяти — о пасхе и троице хаживал в церковь, то его постигла другая участь: после батюшкиной кончины, когда меня снаряжали в аббатство учиться, сюртук распороли и сшили мне из него новенький кафтанчик. Я надевал его по воскресеньям и удостаивался в этом наряде таких насмешек и помыкательств от моих однокашников, что всем своим робким сердчишком тосковал по умершему отцу и воспринимал это поношение досточтимого сукна, которое видел на своих руках, как некое святотатство.