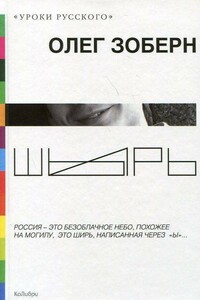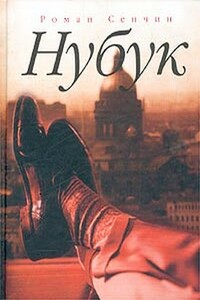Изобилие | страница 33
1995 г.
Вторая половина дня
Мы шли по лесу и пинали листья.
«Этот от какого дерева? Дуба?» – спрашивал я. «Совершенно верно, Паганель!» – «А у нас дубы не растут. И клены тоже». Когда мы стояли на горбатом мостике с обрушившимися в воду перилами, я боялся, что она столкнет меня. Она живая, ей скучно со мной. И грустный, тихий, словно больной, лес не может заглушить ее радость – ей хорошо. Я хочу, чтобы мне хоть на минуту стало так же. Я пытаюсь говорить глупости: про листья, про осень, про покой, а она смеется. Смеется глазами. «Смотри, цветы!» – она сорвала поздний, почти бесцветный цветочек и воткнула себе в волосы. «Теперь ты совсем похожа на испанку». Она подняла, изогнула руки и щелкнула пальцами. «Здорово», – сказал я. Мы идем дальше. «Это поганки?» – «Наверное». Мы не ищем грибы, мы просто гуляем по лесу и пинаем листья. Они подлетают и вновь ложатся на землю. Я беру ее за руку и держу – и готов держать так всегда, но она освобождается, быстро уходит вперед. «Смотри, а это?» – «О, похоже на шампиньон». – «Краси-ивенький. Сорвать?» – «Только грибницу не потревожь. Новый вырастет». И мне становится неловко за свое сюсюканье. Я думаю: как ребенок… Острыми ноготками она отделила гриб от корня, долго рассматривает. «Интересная шляпка, да?» – «Да». – «И пахнет как! Прелесть…» В ней просыпается азарт. Кружим вокруг того места, где рос шампиньон, но больше грибов нет. «А это что там краснеет?» – «Давай посмотри. Может, мухомор». Подходим. Бутылка из-под кетчупа. Кострище, корявый ствол с облезлой корой. «Шашлыки кто-то жарил». – «Тоже хочу шашлыков». – «Я тоже…» – «Ой, смотри!» Трухлявый пенек усыпан хилыми коричневыми грибками. «Опята, да?» – «Не знаю. Я в таких не разбираюсь». Она присела, осторожно, с опаской трогает грибочки: «И я в грибах мало что знаю. Белые знаю…» – «Тогда оставим, пусть растут». – «Пусть». Неожиданно набрели на маленький прямоугольный пруд, вся поверхность воды покрыта листьями. «Красиво?» – «Да. Красиво». «Сейчас бы кораблик. – Она сладко вздохнула. – И поплыли бы мы с тобой…» Я пожал плечами: «Нет у нас кораблика». – «Давай тогда просто на бережке посидим». – «Давай». Присели на листья, она взяла один, покрутила, потом – еще один. «Смотри, по краешку он зеленый». – «Это кленовый?» – «Кленовый». – «Красивые у кленов листья». Я лег на спину и стал смотреть в небо. Его мало, прямоугольничек, словно отражение пруда. И облака бегут, бегут, и солнце то выглянет, то спрячется. Она легла рядом. «Что грустишь?» – «Не грущу, на небо смотрю». – «И что видишь?» – «Облака, солнце». Она тоже смотрит, наверное, ищет солнце. А его там нет, где-то оно сбоку, за деревьями. Потом повернулась набок, прижалась ко мне: «Мне холодно». Я прикрыл ее полой своего пальто, и она уткнулась мне лицом в грудь. Я обнял ее. И так мы лежим долго, я дышу ее волосами. Странно все это, странно… Пролетела птица, тяжело, со свистом махая крыльями. Она приподняла голову: «Что это?» – «Ворона». – «А… Ты уютный и теплый». Снова спряталась, я еще крепче обнял ее и закрыл глаза. Время от времени грохочут вдалеке электрички, а так, без них, тихо-тихо, и воздух чистый, свободный. Сытный. «Хорошо здесь», – слышу ее голос как будто в себе. «Да, я об этом же думаю». Кажется, часы остановились, и мы никогда не уйдем отсюда, и больше ничего нигде нет, кроме этого больного леса, маленького, под опавшей листвой спрятавшегося пруда и нас, прижавшихся друг к другу. Странно… Порыв ветра, зашуршало, на нас посыпались листья. Пусть засыплет, засыплет совсем… «Я теперь как ведьма, да?» Она сидит, подогнув под себя ноги, волосы растрепались, в них сухие травинки. «Нет». – «А-тя-тя-тя-тя-тя», – состроила морщинистую гримасу, зашамкала ртом, как беззубая. «Все равно нет». – «Ладно, пойдем на станцию».