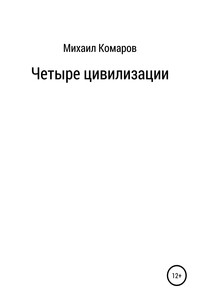Отчизны внемлем призыванье... | страница 48
Повезли в Сибирь. Конвоир получил строжайшую инструкцию: «Во время пути никуда не заезжать и не дозволять арестанту отлучаться; наблюдать, чтоб он ни с кем не имел разговоров ни о своей жизни, ни даже о своем имени, равно и самому конвоиру уклоняться от всяких вопросов насчет препровождаемого арестанта»[158]. Итак, тайна в тайне спрятана за тайной. Утром, когда на станции перепрягали лошадей, секретный арестант вдруг выскочил из повозки и бросился целовать женщину. Незнакомка остолбенела от ужаса. Перед ней стоял пожилой изможденный человек с жесткими сединами, по его впалым щекам катились слезы, в глазах застыло непередаваемое страдание, а на плечи была накинута дорогая волчья шуба, крытая сукном — презент из фондов III отделения на дальнюю дорогу…
Вскоре Батеньков напишет знакомым: «Я… снова увидел люден, как из гроба вставший. Все мои чувства — психическая редкость. Понятия переступили время и пространство. Многолетний быт вижу вдруг… Жадно смотрю на женщин. Неестественная разлука с матерями, супругами, сестрами, невестами произвела во мне такую к ним нежность…»[159].
Ближайшие друзья Батенькова, Елагины, вспоминали: «Когда Батеньков проезжал через Москву, то упросил своего провожатого (жандарма) заехать в дом Елагиной у Красных ворот; но, к несчастью, все семейство было в то время в деревне, дом был пуст. Батенькову было запрещено писать, каждое его письмо должно было идти на цензуру в Петербург, и он принужден был проехать дальше, никому не дав знать, что он еще жив»[160].
Мария Николаевна Волконская, познакомившись в Сибири с узником Алексеевского равелина, рассказывала: «По выходе из заключения он оказался совсем разучившимся говорить: нельзя было ничего разобрать из того, что он хотел сказать; даже письма его были непонятны. Способность выражаться вернулась у него мало-помалу. При всем этом он сохранил свое спокойствие, светлое настроение и неисчерпаемую доброту; прибавьте сюда силу воли, которую Вы в нем знаете, и Вы поймете цену этому замечательному человеку»[161].
Царское правительство пыталось упрятать Батенькова подальше, ограничить его общение с людьми, избежать гласности беспримерного эпизода. Декабрист не мог не чувствовать трогательную «заботу» жандармов:
«В обстоятельствах моих только и приметно, что боятся и принимают меры, чтобы я чего-нибудь не написал: не слишком заботясь, впрочем, ежели от меня что-нибудь останется, лишь бы не шло в огласку в настоящее время»