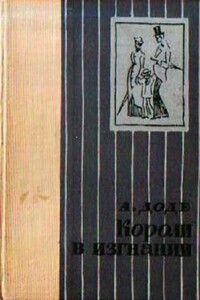Воспоминания | страница 20
Порой гостиная молодела. В эти дни там можно было встретить знаменитого адвоката Лашо и его жену — дочь хозяйки дома: она-неизменно печальная, он-жирный и лысый, с прекрасной головой законоведа времен Восточной Римской империи. Бывали там и молодые поэты: Октав Лакруа,[41] автор «Апрельской песни» и пьесы «Любовь и ее превратности», поставленной во Французском театре (он подавлял меня, несмотря на свое благодушие, так как был секретарем Сент-Бева), Эмманюэль дез Эссар[42] приходил сюда со своим отцом, видным писателем, служившим библиотекарем в Сент-Женевьев. Эмманюэль был тогда совсем молодым человеком, начинающим литератором и, если не ошибаюсь, еще носил в петлице пальмовую ветвь студента педагогического института. Теперь он возглавляет кафедру литературы в Клермонском университете, что не мешает ему выпускать ежегодно один, а то и два томика превосходных стихов. Как видите, это очаровательный профессор со стебельком мирта на шапочке. Появлялись у г-жи Ансело и поэтессы: Анаис Сегала[43] и молодая, недавно открытая муза с лазурными очами и буклями из чистого золота, напоминавшая своей несколько старомодной грацией Дельфину Гэй[44] и Элизу Меркер.[45] Звали ее Дженни Сабатье, настоящая же ее фамилия была Тиркюир, что недостаточно благозвучно для музы. От меня тоже требовали стихов, но, говорят, я был застенчив, и это сказывалось на моем голосе. «Громче! — твердила мне г-жа Ансело. — Громче! Господин де Ла Рошжаклен ничего не слышит!» Таких глухих тетерь, как г-н де Ла Рошжаклен, насчитывалось в гостиной человек шесть. Они никогда ничего не слышали, хотя внимательно слушали, приложив ладонь к уху. Зато Гюстава Надо[46] нельзя было не услышать. Самоуверенный, приземистый, широкое улыбающееся лицо, наигранное грубоватое добродушие, не лишенное остроты в этой сонной обстановке, — таков был автор «Двух жандармов»; он садился за фортепьяно, громко пел, сильно стучал по клавишам и всех будоражил. Каким успехом он пользовался! Мы все ему завидовали. Иной раз принималась читать стихи какая-нибудь честолюбивая актриса, желавшая выдвинуться. Это была тоже традиция дома: Рашель некогда декламировала стансы у г-жи Ансело; полотно, висевшее возле камина, свидетельствовало об этом примечательном факте. С тех пор здесь всегда декламировали стансы, но, увы, уже не Рашель. Картина, посвященная ей, была не единственной в гостиной; картины выглядывали здесь отовсюду, все были написаны г-жой Ансело, не пренебрегавшей живописью — всему свое время, посвящены ее салону и призваны увековечить какое-нибудь великое событие этого крошечного мирка. Любопытные могут найти у Дантю их репродукции (сделанные — о ирония судьбы! — Э. Бенасси, жесточайшим скептиком среди художников). Это нечто вроде автобиографии г-жи Ансело под заголовком «Мой салон». Ни один приверженец салона на них не забыт. По-моему, я тоже нахожусь там на заднем плане.