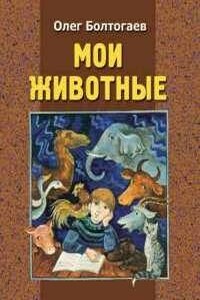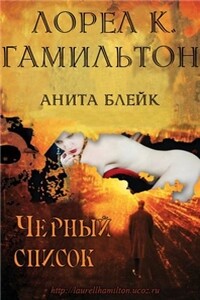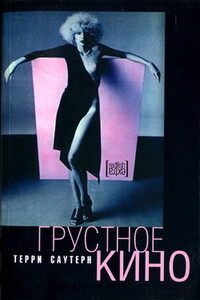Лопушок | страница 17
Я смотрел вниз, на её ноги, короткая юбочка едва прикрывала бедра, мне безумно хотелось ласкать мою любимую, но непонятная робость сковывала меня.
Но настал новый вечер, и я решился.
Мы целовались, и ладонь моя покоилась на девичьем колене.
— Люблю тебя, — прошептал я, оторвавшись на мгновение от её нежных губ.
— А как ты меня любишь? — неожиданно спросила Тамара.
Действительно, как?
Сложный вопрос.
Варианты ответа: «Сильно-сильно. Крепко-крепко».
Детский сад какой-то.
Но что отвечать? Вопрос-то задан.
— Я люблю тебя… Больше всего на свете, — выдохнул я.
Это была правда.
И мы стали снова целоваться.
И в этот момент моя ладонь, словно сама по себе, скользнула вверх по ноге девушки. Сердце моё застучало сильно и часто.
Мои пальцы коснулись края короткой юбки и, будто испугавшись, вернулись назад.
И тут я понял, что пугаться не надо.
Потому что Тамара, казалось, не заметила моей дерзости.
Мне захотелось повторить свой успех, закрепиться на достигнутом рубеже.
Я продолжал жарко целовать Тамару, полагая, что таким образом отвлекаю её внимание от трепетных и вороватых движений моей ладони, которая, не зная устали, гуляла вверх-вниз по девичьим ногам.
Мою руку не отталкивали и не отвергали!
Жизнь становилась прекрасной.
Помимо зеркала я стал доверять свои тайны школьному дневнику. Никто бы не догадался, что означают крестики напротив каждого дня. Теперь я могу признаться: один крестик означал, что в этот вечер мы с Тамарой целовались, два крестика — целовались, и я трогал её грудь, три крестика — высший успех: моя дерзкая ладонь ласкала девичьи бедра. Плюс, само собой, целовались и трогал грудь.
Однажды я просмотрел дневник и увидел, что прогресс остановить невозможно: почти каждый день был отмечен тремя крестиками.
Горячие, долгие поцелуи заменяли нам всё.
Нет, никогда в жизни я не целовался так много, как в ту осень, у речки, на узкой кладочке.
Внизу, под нашими ногами, негромко журчала вода, вокруг была такая чёрная ночь, что казалось, будто бы в мире больше ничего нет, кроме вот этой маленькой, бревенчатой кладочки, на которой мы с Тамарой так славно сидели. Я поднимал голову и видел яркие, осенние звезды — большие, маленькие, их было так много, что мне становилось немного жутковато от осознания того, что где-то там, в бесконечности, кто-то неведомый, быть может, так же, как и мы, сидит у речки, на кладочке, целуется и смотрит в чёрное, бездонное небо. Я говорил об этом Тамаре, прямо передо мной были её большие глаза, она улыбалась и тихо шептала, что нельзя быть таким фантазёром. «Нельзя», — соглашался я.