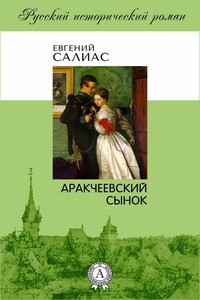Мой друг Пеликан | страница 9
От неожиданной наглости Володя забыл о пугающем облике Джона, и убирая больную руку за спину, позабыв о последствиях, уже готов был врезать по нахальной физиономии. Дрожь нетерпения, ощущаемая во всех жилах, была невыносима; он должен был врезать, чтобы прекратить ее.
Его удержала мысль, что Маришка, возникнув в эту минуту на лестнице, будет очевидицей безобразной сцены. Мысль о больной руке чуть-чуть добавила нерешительности. Впрочем, кругом гудела толпа друзей и знакомых, Вон Круглый из Ухты. А вон там Малинин Юрка, и жлоб Далматов, и хиляк Сашка Савранский, который может сгодиться хотя бы для оповещения компании. Стоит только слово кинуть…
Окончилось разговором. «Смуглый кацо», лениво усмехаясь, криво, слегка на сторону, — явное подражание Джону — вместе с Володей и Маришкой, рядом с ними, вышел в тамбур и затем наружу.
Но потом отстал, потерялся где-то сзади.
Она ни о чем не догадывалась. Володя ждал, ежесекундно ждал нападения. Ведя под руку Маришку, незаметно оглянулся пару раз. И возле мужского корпуса он почувствовал, как возросло напряжение. Смущало внезапное исчезновение незнакомца, тот словно растворился в воздухе.
И вот сейчас две фигуры подвигались ему навстречу, а он, как несколько часов тому назад, шел той же самой дорогой, соединяющей женский и мужской корпуса, меньше стометровки, гораздо меньше. Сейчас он был один, без Маришки. Смущаться было некого.
5
Но когда они приблизились настолько, что Володя мог слышать голоса, — он рассмеялся с облегчением.
Рассмеялся весело, от души.
Двое разговаривали на ломаном русском языке, но не так, как это выходило бы у кацо и подобных ему, а на настоящем ломаном русском языке иностранцев.
Он сразу узнал их.
По дорожке чинно прогуливались в этот ночной час поляк и немец, тоже первокурсники, волею судеб поселенные в одной комнате и ведущие нескончаемый спор днем и вечером. И теперь ночью. Какая страна дала миру больше гениальных людей — Польша или Германия — это был их спорт, они выбрали такую себе игру. В общежитии все убивали время, и у каждого был свой излюбленный способ.
— А кто самый великий славянский поэт? — спросил поляк Кшиштоф. — Мицкевич!..
— Нет, Пушкин, — возразил Райнхард, отталкивающе жирный и при этом с невинными по-детски, голубыми глазами.
— Коперник, Шопен…
— Шопен — француз.
— Врешь! врешь!.. — закричал Кшиштоф. — Как так можно говорить!.. Вот Эйнштейн, правда, еврей. И Гейне, самый знаменитый немецкий поэт, он не немец, он еврей.