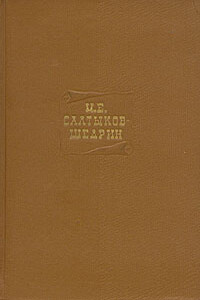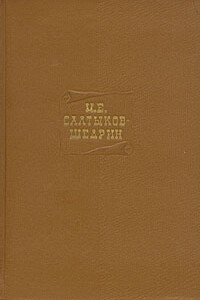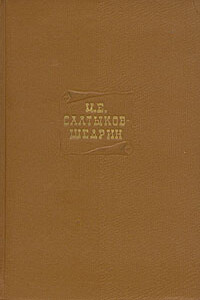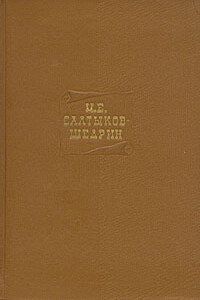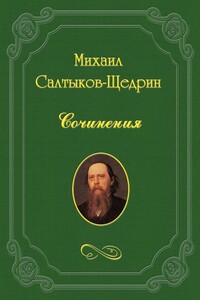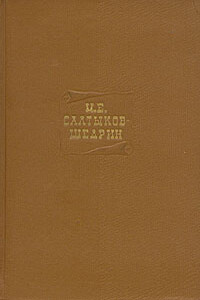Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке | страница 51
Это же время (от десяти до часу) — самое горячее и для бонапартистки, ибо она примеривает костюм, в котором должна явиться к обеду. Процесс этого примеривания она отбывает с самою невозмутимою серьезностью. Наденет одно платье, встанет перед зеркалом, оглядит себя сперва спереди, потом сзади, что-то подправит, в одном месте взбодрит, в другом пригнетет, слизнет языком соринку, приставшую к губе, пошевелит бровями, возьмет маленькое зеркальце и несколько раз кивнет перед ним головой то вправо, то влево, положит зеркальце, опять его возьмет и опять слизнет с губ соринку… И все время мечется у ней перед глазами молодой бонапартист, который молит: ах, эта ножка! ужели вы будете так бессердечны, что не дадите ее поцеловать! Но мольба эта не волнует ее, не вливает ей в кровь отраву… Как истинная кокотка по духу, она даже этим не волнуется, а думает только: как нынче молодые люди умеют мило говорить!.. и начинает примеривать другое платье. Новое стояние перед зеркалом, удаление и приближение к нему; есть что-то неладное назади, именно там, где все должно быть ладно. Что такое? quel est ce mystère?[30] Ну вот, теперь хорошо… tout ce qu’il faut![31]И опять бонапартист перед глазами, который успел уже поцеловать ножку и теперь вопрошает грядущее… Третье платье и новое повертыванье перед зеркалом. Это платье, по-видимому, уж совсем хорошо, но вот тут… нужно, чтоб было две ноги, а где они, «две ноги»? «За что же, однако, меня в институте учитель прозвал tête de linotte![32] совсем уж я не такая…» И опять бонапартист перед глазами, но уж не тот, не прежний. Тот был с усиками, а этот с бородой… ах, какой он большой! Опять платье, четвертое и последнее. Пора. Последнее платье надевается на̀скоро, потому что часы показывают без десяти минут час, и, сверх того, в изгибах tête de linotte мелькает стих Богдановича: «во всех ты, душенька, нарядах хороша…»>* Это единственное «знание», которое она вынесла из шестилетней мучительной институтской практики.
В это же время бодрствует в своей конуре и шпион. Он приводит в порядок собранные матерьялы, проводит их сквозь горнило своего понимания и, чувствуя, что от этого «понимания» воняет, сдабривает его клеветою. И — о, чудо! — клевета оказывается правдоподобнее и даже грамотнее, потому что образцом для нее послужила полемика «благонамеренных» русских газет…
Бьет час, и весь этот людской сброд, измученный отчасти беготней, отчасти легкомыслием, отчасти праздностью, сосредоточивается за табльдотами. На некоторое время город кажется пустым.