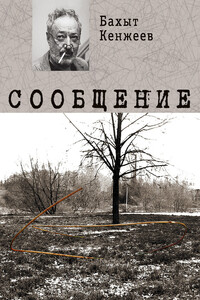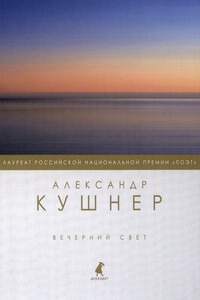Обещание | страница 46
на эротический жар.
Это неправда.
Да, то же тело болит, и те же глаза закрыты, но это только
в начале.
Различия начинаются после.
...С утра в этот день было так много солнца.
И вдруг ты увидел всех тех, с кем когда-то был рядом.
Комната у тебя небольшая, но люди стояли – как бы это
помягче сказать – достаточно плотно.
Большинство из них было тебе безразлично, но при виде двух-трех у тебя защемило сердце. «Есть ли здесь кто-то, с кем бы ты захотел умирать?» – спросили тебя.
– НЕТ, – поспешно ответил ты.
Слишком поспешно.
ДАГАЗ
ГЕБО
ТЕЙВАЗ (РУНА ВОИНА)
...Помните 11 сентября? Все говорили о жертвах высоток и о террористах, но как-то забыли о двух самолетах. А там ведь тоже летели люди. Что они чувствовали, интересно? Вам интересно? – Я думаю, близость к убийцам-пилотам. Которые стали им родиной, их отцами и их сыновьями. Мужьями и женами тоже стали. Кто-то, наверное, плакал. А кто-то, наверное, пел и смеялся. Неудивительно, что их мало потом (как-то вскользь) вспоминали. Они умирали ради символа. Пусть и чужого. И ради идеи. Пусть и не нашей. Если выбирать между смертью в концлагере или подвале, я бы не отказался лететь в таком самолете. Ибо в этом их отсутствии выбора перед смертью (у жертв и у тех камикадзе) – было больше братства, чем у всех нас, кто потом занимался раскопками павших башен.