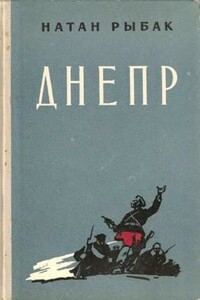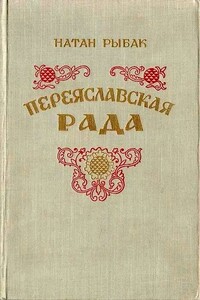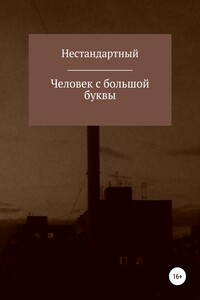Ошибка Оноре де Бальзака | страница 46
— Погоди, я еще не все спросил, погоди. Кто ты, Леон?
Камердинер смущенно молчал, крепко сжимая в руках книжку.
— Кто ты? Чей, откуда?
— Пани Ганской, мсье, — тихо ответил Леон. Да ведь вы знаете, мсье…
Не этого ответа ждал Бальзак. Сердце болезненно сжалось. Вот перед ним стоял умница, красавец парень: рожденный среди этих степей в семье крепостных, он научился читать и писать, даже знал французский язык по милости пани Эвелины, как она сама с гордостью рассказывала, и все же он не принадлежал себе. Бальзак думал об этом с горечью.
Леон, встревоженный вопросом француза, а еще более того задумчивым молчанием барина, осторожно ступая по пушистому ковру, вышел из кабинета.
Много мог бы он порассказать барину, который сочиняет такие замечательные истории. Леон прочитал уже страшный рассказ про скрягу-ростовщика Гобсека, и напрасно пани, увидав у него в руках эту книжку, презрительно проронила:
— Что ты там поймешь, Леон?
Напрасно она так думает. Леон многое понял. И когда его послали в Радзивиллов встречать барина, он подпрыгнул от радости. Многое мог бы он ответить барину. Да кто знает, заинтересует ли чужеземца судьба Леона, захочет ли он слушать о верховненских ужасах. Да, он мог бы описать дьявола Кароля, мог бы так описать, что все люди ужаснулись бы, узнав, что за житье в Верховне. И о Нехаме мог бы Леон рассказать. Как любит ее, как постоянно видит перед собой ее глаза; может, мсье подаст добрый совет…
Забравшись вечером в свою каморку на антресолях и зажегши свечу, Леон, обессиленный тревожными думами, обступившими его со всех сторон, склонился над книжкой.
Внизу, в комнатах графини, раздавались веселые голоса, оттуда долетали звуки рояля, но Леон ничего не слышал. Перед ним развертывалась иная жизнь, и он слушал речи незнакомых ему дотоле людей, ясно видел их лица; сердце его трепетно билось, сочувствуя доброму старику Горио, проникаясь гневом и презрением к его легкомысленным дочкам.
Догорела свеча, Леон зажег огарок, но и тот скоро кончился. Тогда он закрыл лицо руками и застыл на лавочке у окна, погруженный в размышления и мечты.
Сентябрьская ночь сотрясала сад властными порывами ветра, громоздила на небосводе дождевые тучи и разносила эхом по всей округе стук сторожевых колотушек.
Долго еще не гасил света в управительском флигеле Кароль Ганский. Налегая грудью на стол, он старательно писал на широком листе: «Его высокоблагородию господину Киселеву, Федору Каллистратовичу, в Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии…»