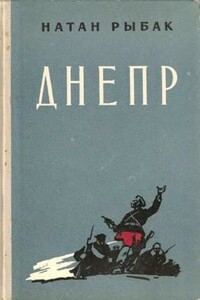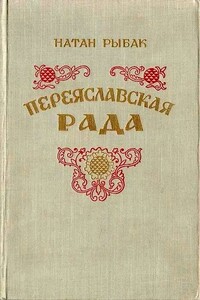Ошибка Оноре де Бальзака | страница 39
Хорошо, пусть его называют в Верховне управителем, он стерпит и это, но, пся крев, он не позволит, чтобы деньги его брата, состояние, приобретенное именитым родом Ганских, попало в дырявые карманы какого-то парижского проходимца, чтобы их прогуливала шлендра Эвелина Ржевусская. Нет! Этого не будет. Кароль Ганский решительно отодвигает от себя пустой графин. Так же быстро, как покончил с этим графином водки, покончит он и с Бальзаком, с Эвелиной, со всеми этими расчетами. Хочет Ржевусская в Париж — никто не держит. Пусть едет, но без денег, без права на Верховню и все имущество. От этих соблазнительных размышлений Каролю становится жарко. Посреди беспорядка, царящего в его, кажется, никогда не прибираемой комнате, он чувствует себя непринужденно и преотлично. Это не салон Ржевусской, где приходится глотать горький кофе, улыбаться, слушая нелепые замечания своей племянницы Ганны или болтовню этого выродка Мнишека, который дергается, как чертик на веревочке. Здесь, в этой комнате, Кароль Ганский у себя дома, а скоро он и во дворце будет как у себя дома. Погоди, пани Эвелина!
Воинственное настроение Ганского, подогретое озлоблением и крепкой водкой, выпитой сверх всякой меры, еще более разгорается, когда на пороге появляется Леон, которому он еще накануне велел прийти.
Смерив тяжелым взглядом исподлобья стройную фигуру парня, управитель не отвечает на его поклон, только небрежным мановением пальца подзывает его поближе. Но Леон знает, что между ним и паном управителем должно быть не меньше четырех шагов. Пан управитель не раз кричал, что не выносит мужицкого духа, и запрещал подходить к своей особе ближе, чем на четыре шага.
— Что говорил тебе в дороге этот проходимец? — заревел управитель, брызгая слюной. — Говори, как на исповеди, не то прогуляешься на конюшню.
У Леона было желание ответить на этот лай одним способом. Но когда-то Семен Варивода пытался поспорить с паном управителем и ныне сгнил уже, верно, в далекой Сибири. Поэтому Леон только проглотил горькую слюну, подавляя обиду за иноземца, которого он и в самом деле считал лучшим барином на свете.
— Ничего не говорил.
Такой ответ не мог понравиться Ганскому. Постукивая тяжелым кулаком по пухлому, как подушка, колену, он сверлил взглядом недвижную фигуру Леона, приговаривая:
— Крутишь, подлюга, крутишь, стерва. Я тебе покручу, погоди!
— Как будет вашей милости угодно. Только он ничего не говорил. Молчал.
— А впрочем, и правда, — вдруг согласился Ганский, — о чем с тобой говорить? Разве ты понимаешь человеческий язык?