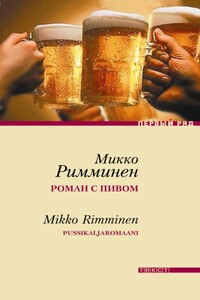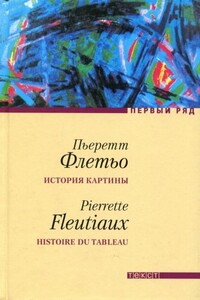Осенние мухи. Дело Курилова | страница 34
Моя жизнь революционера началась в восемнадцать лет. Я много раз выполнял задания на юге Франции, провел некоторое время в Париже. В 1903 году Комитет направил меня в Россию, поручив убить министра народного образования. После этой истории я порвал с боевиками и сблизился с Т. За дело Курилова меня приговорили к смерти, но за несколько дней до казни родился наследник престола цесаревич Алексей, и я получил помилование — бессрочную каторгу. Помню, что ничего не почувствовал: я харкал кровью и был уверен, что умру по дороге в Сибирь. Но смерть, как и жизнь, непредсказуема.
Я выжил на каторге, поправился и бежал.
Помню, что в 1905-м, в первые месяцы революции, я так уставал, что спал как убитый, но был очень счастлив.
Я сопровождал Р. и Л. на заводы, где они выступали перед рабочими. Голос у меня всегда был резким и неприятным, а из-за слабости легких я не мог произносить длинных речей, они же часами агитировали толпу. Я спускался с трибуны, смешивался с людьми и разъяснял им все, что было непонятно, давал советы, старался помочь. Бледные лица рабочих, их сверкающие глаза, их крики, их гнев и даже их глупость опьяняли меня, как вино. Меня возбуждало чувство опасности, в отличие от остальных я не пугался, когда по улице мимо окон проходил состоявший на жалованье у полиции дворник.
Рабочие расходились по одному, растворяясь в осеннем тумане ледяной петербургской ночи. Выждав некоторое время, мы тоже исчезали и до самого утра петляли по улицам, сбивая со следа шпиков.
Я покинул Россию и вернулся только накануне революции.
В своих прежних статьях и исторических работах я описал, что тогда происходило и что за этим последовало.
В 1917-м я стал большевиком Львом М. На карикатурах в западной прессе меня изображали в кепке и с ножом в зубах. Год я был сотрудником ЧК, но хорошо выполнять эту чудовищную работу могли только люди, переполненные жгучей личной ненавистью. Я же…
Странное дело: я спасал не только ни в чем не повинных людей, но и некоторых врагов новой власти, однако меня ненавидели сильнее, чем моих товарищей, например матроса Ностренко, истеричного позера, пьяницу и педераста, лично расстреливавшего приговоренных к смерти узников (хорошо помню его напудренное лицо с выщипанными бровями и белую гладкую, как у женщины, кожу на груди…), или поляка Ладислава, горбуна с изуродованной шрамом отвислой нижней губой.
Думаю, идущим на смерть становилось легче от сознания, что их палачи — безумцы или чудовища, я же выглядел вполне заурядно — маленький человечек в пенсне, курносый, с тонкими руками.