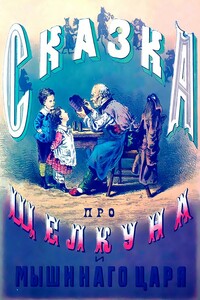Казак Иван Ильич Гаморкин. Бесхитростные заметки о нем, кума его, Кондрата Евграфовича Кудрявова | страница 83
А что из него анжынера сделают, так это совсем пустые мечты. Все — случай; может из него псаломщик или тентери-вентери какая получится, а? А может и мировой Владыка?
Статья моя, не в пример грустная, и на всякие размышления наводящая, а все-же, поддам и я жару. Скажем, техника.
Настал XXX век.
Коней — по шапке, нет их больше и не нужны! Казачеству от этого не погибать. Спрошу-ка я тебя, станичник: на ероплане джигитовать можно? Можно. Вертуна там или мертвую петельку. Ха-ха-ха… Так вот, скажем, в станице, у каждого казака на леваде в сарайчике — ероплан, а у меня, как у каптенармуса — два. Выскочит есаул:
— Со-о-отня, за мной!
И тут табе каждый на ероплан, не седлать тебе, ничего: фрр… и полетел. Что главное, — это то, что все видать сверху.
Скажем — пол-Дона, или пол-Кубани.
На границе, скажем, пятнышко. Ниже спустились — пятнище, еще ниже — куча, еще ниже — из кучи штыки и лапти торчат. Сычас же это есаул:
— Со-тня-а!
Ну, и, конечно. Вот и все. Насчет остального прочаго, в другой раз, потому что будущее у нас малина — ври и не оглядайся.
Иван Гаморкин.
На конверте том стояла марка со слоном. А иде тот слон живет, в каких заморских странах обретается, — разве узнаешь. Ищи этого слона. Хоть и не маленький, хоть и издалека его видать, а не ухватишь — ровно ветер в поле…
Слег я. Заболел. За мной ухаживает друг мой и Ивана Ильича — Михал Александрович Петухой. Выскочит он на момент, на свою работу, пометет-пометет улицу свою, да и ко мне. Такой огорченный стал. Такой стал серьезный и озабоченный. Во все углы заглядывает, на меня не смотрит, — будто что-то потерял. Аспириной меня кормит, разными перамидонами и еще какой-то жидкостью мутноватого цвета. Может мне и вправду плохо. В больницу не пойду. Что-ж, все под Господом Богом ходим. Он-то все видит. Вышло значит распоряжение — убрать со свету белого казака, Кондрата Евграфовича Кудрявова.
Сейчас же это болезнь в меня, во все дырки и полезла. И там ковыряется и там, ищет в моем теле, — за что бы ей уцепиться, какой инструмент сломать.
Приходил даже ко мне вчера полковник Козьма Иванович.
— Слег? — говорит.
— Слег.
— Что же у тебя болит, Евграфович?
— А все болит! И тут-вот, и тут-вот, и тут-вот.
— Г-м… Печально.
— Очень печально, — соглашаюсь.
Посидел он подле меня часочек. Покурили мы, хоть кашель меня и душит. Петухой в сторону смотрит, нос трет.
— Ему умирать никак нельзя! Он о Гаморкине записывает.
— Что записывает? — переспросил его Козьма Иванович.