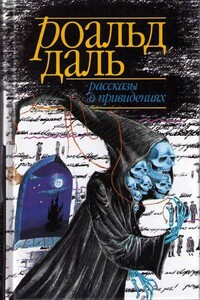Казак Иван Ильич Гаморкин. Бесхитростные заметки о нем, кума его, Кондрата Евграфовича Кудрявова | страница 42
— По-гречески же фома, значит верти-хвост.
Фомка тут разрыдался — то-ль обиделся, то-ль пожалел, что его имя в греческом переводе столь скверное значение имеет.
Петровна ходила как пьяная, хоть ничего и не пила, вокруг мужа, и только шикнула на сына; от этого шиканья Фомка заревел еще пуще.
От него все отвернулись и перестали обращать внимание. Все, кто были в Гаморкинском курене, а были: сам Гаморкин, дьякон, дедушка Панкрат (дядя Настасьи Петровны), Павел Иванович Лазарев и жена его Ольга Васильевна, сидевшая в сторонке, Петухой, приехавший по столь торжественному случаю, Станичный Атаман Ротов, Фрол Петрович и Писарь с простреленным ухом, без фамилии, а с прозвищем „Титяй", я — Кондрат Евграфович Кудрявов и мать Фомки, Настасья Петровна с моей Прасковьей. Почти все мы пили вино и водку. Пили по одиночке и все сразу. Говорили все шумно и горячо. Я же наблюдал за Фомкой. Он, проплакавшись, стал смотреть на всю компанию во все глаза.
— Это Фомка, — сказал я ему, указывая на водку, — не вода.
Фомка недоверчиво косил глазом.
— Не вода это! Это водка: хам — и выпил все. Видишь? Ни капли.
В это же самое время, когда мы с Фомкой вели, нам только понятные, между собой разговоры, Станичный Атаман что-то стоя говорил. Стоя он говорил по причине малаго роста. Он был при шашке и шашка, вылезая над столом, за которым все сидели, на пол лршина цеплялась головой своей, напоминавшей куриную, самым своим медным начищенным клювом за большую синюю кострюлю с варениками.
— Видишь, — сказал я Фомке, — шашка есть хочет. Ишь. Дадим ей вареник, чтоб она немцев лучше клевала.
Речь Фрола Петровича была мало понятная, все вертелось около хозяйства. Остальные пили, закидывая голову, крякая и облизывая губы, или морщась и сплевывая.
— Мы, Иван Ильичъ, твой пай сдавали в аренду и коня твово, что взамен сдохнувшего, табе купили, выплатили. И ен таперь твое. И никто его у тебя отобрать не может. Урра-а-а!
Все кричали — ура-а-а!
Дьякон гудел и рыкал вопросительно:
— Зза ко-го?… 3-за кко-ня? — и заискивающе глядел на вошедшего и подсевшего к столу попа. (Поп-то был уже другой, не страшный — тот помер, но этот тоже был справедливый, казачий поп. Больше молчал).
Фомка поджал ноги и стал летать.
Чуден и грозен вставал мир перед каза-ченком. Оомка даже зажмурился, а когда открыл глаза, то все уже стихло.
Писарь Титяй, с простреленным ухом обнимал Ивана Ильича Гаморкина.
Дьякон, так, мне казалось, вдвое стал толще, от выпитого неимоверного количества всяких напитков. Может тоже почудилось и 0омке, может спасая общее положение, Фомка стал… мочиться.